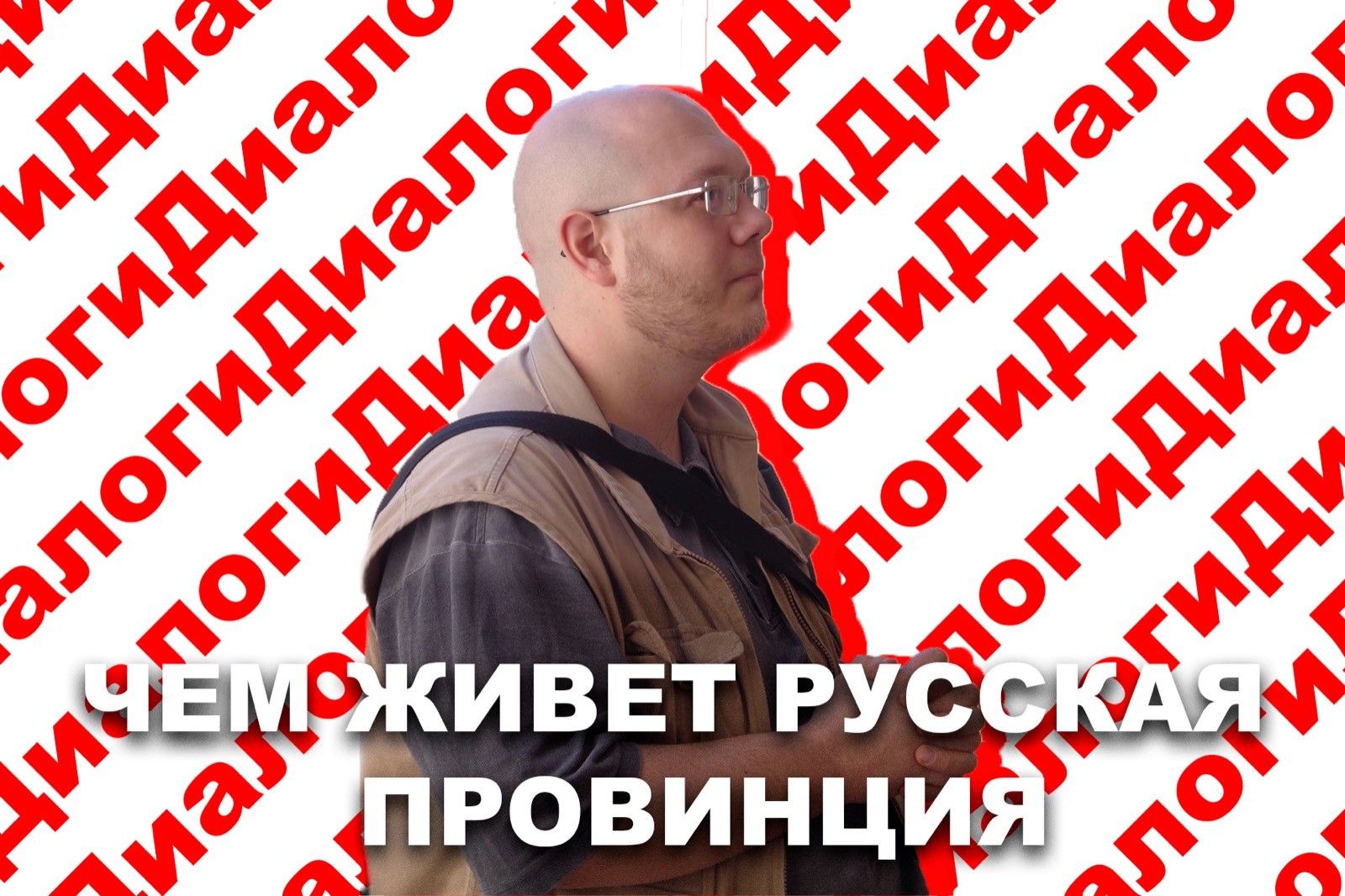
Чем живет русская провинция?
Дмитрий Лисицын культуролог, исследователь малых городов, партнер ЦСП «Платформа» периодически посещает российские регионы, проводит интервью с представителями различных слоев общества, знакомится с разнообразными укладами жизни. Его опыт позволил немного сократить разрыв между крупными центрами и малыми городами, помог понять, какие настроения сегодня преобладают в глубокой провинции.
Алексей Ф.: Я бы начал со специфики. Вот есть какая-то специфика в том, как люди думают, воспринимают реальность, которая, с одной стороны, помогает и позволяет объединить всю совокупность названия «провинция»? То есть люди в провинции думают вот так, а не иначе? Или можно ограничить провинцию понятием «малого города», так, может быть, будет проще? Чем, собственно, этот способ мышления, отношения к реальности отличается от привычного нам в крупных городах? Вот давайте такую отправную точку зададим.
Дмитрий Л.: С начала года я посетил несколько десятков городов в более, чем 10 регионах. Беседовал там с местной общественностью. Я это делаю уже там несколько лет подряд, так что какой-то багаж наблюдений есть. А давайте, может быть, начнем вообще с попытки коротко определить универсум? Вот Алексей говорит «провинция», мы далее выносим «глубинка». Я предложил бы говорить именно о глубинке как некоей такой провинции. А вообще к тому, что такое глубинка, есть два подхода: первый подход – это масштаб поселения, то есть, сколько в нем живет людей и какой возможный объем человеческого капитала там есть. Второй – это связанность, отдаленность от других крупных центров. Они оба имеют важное значение. Соответственно, начну, наверное, с первого.
Вообще, раньше на 100 тысяч населения пропадала публичная детализированная статистика. И там эксперты, которые не имели доступа к закрытым данным, толком не знали, что там происходит. Минстрой России, самый такой наш главный оператор в области инвестиций в малые города, каких-то потоков, который туда идет, считает за малые города, которые составляют не более, чем 50 тысяч человек. И, наверное, здесь можно согласиться с Минстроем, поскольку от него все равно зависит – будет комфортная среда в них или нет. Это первое. Второй момент – все малые города и большие, они, так или иначе, являются частью системы расселения. Очень популярная мысль – малые города конкурируют с большими и проигрывают. Дальше мы обязательно коснемся этого. Но вообще, это очень сомнительная мысль. Она исходит от Ричарда Флориды в популярном изложении – города конкурируют за капитал, некоторые выигрывают, некоторые проигрывают и так далее. Но вообще-то это реальность молодой страны, быстрорастущей, а вовсе не страны со старой системой расселения.
В общем, грубо говоря, все города связаны. Есть крупные узловые центры. У нас есть два самых крупных: Москва, Санкт-Петербург. И коротко, там должна быть какая-то отбивка по времени на транспорте. Допустим, до двух часов – это будет у нас средний пояс большого города на транспорте, там от двух до четырех – это будет некая периферия и, если от периферийного центра ехать еще два часа или час, это будет уже глубинка. Вот примерно так. Все меняется, потому что транспорт ускоряется.
В общем, будем говорить о небольших городах, поселениях, селах, которые располагаются вдали от крупных центров на определенном расстоянии, до которых не так просто добраться. Второй момент, собственно, вопрос Алексея – чем общество в малых городах, на малых территориях, в глубинке отличается от социальной среды в мегаполисах: это мысли, ожидания, представления о будущем? Первое, они отличаются своим отношением к пространству и, в первую очередь, благодаря фактору, который я только что упомянул, по своей географической удаленности, изолированности.
Например, на пути моих исследований был небольшой город Оханск Пермского края, который лежит где-то на расстоянии километров 150 от Перми. Но для того, чтобы туда попасть, надо доехать до другого такого же небольшого центра, от него ехать 10 километров до парома. Причем общественный транспорт ходит там нельзя сказать, что регулярно. Потом ждать этого парома, на пароме туда ехать полчаса. И полчаса от парома еще иди. А теперь внимание, вопрос, вот как в этом городе существует молодежь? Очевидно, что она там существует не так, как она ощущает себя в большом каком-то центре. То есть у них немного другие отношения с пространством, другая мобильность. Нельзя сказать, что они менее мобильные, чем мы, это совсем не так. Потому что сейчас очень развито такое явление, как отходничество, оно развито вообще везде далеко от Москвы. И люди совершенно какие-то чудеса там творят. Мне вот запомнился пример из наблюдений этнографа Дмитрия Опарина из Республики Марий Эл. Он описывал, как местные жители грузятся в автобус, чтобы ехать сколько-то часов, я не помню, 15 что ли, в Москву на работу и обратно. То есть с мобильностью у них все в порядке, в общем, просто у них немного другие отношения. Они не ездят маятником – час туда-обратно, не стоят в пробках. В общем, у них немножко другое ощущение пространства. И оно их от нас отличает. У них чуть-чуть другой такой биоритм. У них иное восприятие времени, причем вот как времени такого длящегося текущего, так и времени как некоей эпохи. То есть длящееся, текущее – это понятно, потому что оно там более медленное. Там меньше дел, меньше каких-то высокоэффективных занятий. И вообще с высокоэффективными занятиями там проблема. Об этом, наверное, я тоже дальше скажу. А вот время, как некое именно время, в котором мы живем, оно там немного другое, чем у нас. Во-первых, его черты визуально не очень похожи на черты современных городов. Вот мы видим современный город, что он постоянно развивается, в нем что-то меняется. А если что-то людей не устраивает, это через какой-то момент на что-то заменяют, вот так оно существует.
Хотя, конечно, тоже есть сюжеты, длящиеся годами. Мой любимый, это автовокзал города Пермь. Это удивительный автовокзал. Там на Яндекс около 20 тысяч оценок, и средний его балл 2,1. Вот такого нет, например, ни у одного крупного вокзала. То есть люди единодушны в его качествах. Каждый раз в этом убеждаются, но ничего не происходит.
В малых городах среда меняется очень медленно и она, скорее, не заменяется, а какие-то ее элементы исчезают. И вот на конкурсе Минстроя «Комфортная среда» в 2018 году были публичные защиты проектов и было довольно много заявок, когда пытались вернуть что-то утраченное. То есть «В нашем городе был некий парк, потом наступили 90-ые, этот парк в 90-ые исчез. И вот сейчас мы хотим снова вернуть парк». Потому что город выжил, люди остались, они хотят жить дальше: «Нам нужен парк». Таких заявок было достаточно много. И надо сказать, что частично они благодаря этой программе были удовлетворены. И некая реновация среды, точнее внедрение новых элементов состоялось. Но так или иначе, малый город и тем более сельская местность, глубинка живут немножко в другом времени. Там очень мало меняется физическое пространство, среда остается практически той же самой, остается примерно тот же уклад жизни. И то, что изменяется очень быстро в других местах, может не меняться здесь. Они могут пропускать какие-то эпохи. Например, они совершенно наверняка пропустили эпоху «Игры престолов». Кто-то этим интересовался, но сказать, что это стало каким-то событием для них, это вряд ли. Точно также они переживают всевозможные кулинарные тренды, которые так колышут каждый раз в Москву. Там очередной ванильный раф или еще что-то. Просто это меняется с такой скоростью, что они за этим не успевают.
Но и вообще это интересный феномен – жизнь в другом времени, с другими потребностями, привычками и с другой такой линейкой потребления этого времени. То есть понятно, что есть общие черты, у всех есть смартфоны и прочее. Но вот, например, те же третие места формируются с очень большим трудом и третие места тех форматов, которые есть в больших городах, могут не возникать совсем.
Вот, например, город Устюг относительно большой, федеральный бренд, который посещают около миллиона туристов в год, в нем нет, по большому счету, ни одного современного качественного ресторана. Вот с чем это связано? Связано с тем, что туристы бывают в Устюге две недели или там три недели перед Новым годом, после Нового года. Они обслуживаются по какому-то внутреннему своему циклу. То, что потребляют туристы, местные жители не потребляют. И у них вообще другое отношение к этому. И соответственно, в Устюге так и не открывается то, что по идее там должно быть. Вот все эти милые кафешки, ресторанчики, которые у нас ассоциируются с жизнью небольшого города, просто там не выживают.
И вот на юге Архангельской области есть небольшой городок, там мне прямо на пальцах рассказывали, как они несколько раз пытались открыть ресторан, а там тоже есть некий туристический поток. Они говорят: «Бесполезно». То есть любые попытки, так или иначе, быстро приведут к разорению. До какого-то уровня выгоднее кейтеринг возить. И ряд таких привычек с трудом просачивается. Но есть более мобильные аудитории. Вот та же молодежь, она визуально будет очень мало отличаться от молодежи в больших городах.
Образ будущего – это тоже часть восприятия времени. Он для малых мест немного другой. Все, что я рассказываю, это мои наблюдения. Они могут быть другими у разных людей. Но вот по моим наблюдениям, в малых местах отчуждение от образа будущего воспринимается острее, чем в больших местах. Это немножко парадоксально, потому что людей вроде бы мало, от каждого по идее зависит больше. И сделать надо в общем-то меньше для того, чтобы изменить территорию. Но что может человек изменить в Москве?
Тем не менее в рамках одного из проектов мы просили провести людей стратегические сессии и опросы местного населения. Это очень интересная такая технология: местное население опрашивает местное население. И вот там задавали вопрос – от кого зависит образ будущего? То есть это государство – № 1, все мы – № 2, и № 3 – «от меня ничего, как правило, не зависит». Я видел больше, чем несколько десятков каких-то разработок, связанных с будущим, которые создают сами жители. Он очень часто наполняется благими пожеланиями, фантазиями, именно фантазиями, а не мечтами. То есть люди говорят либо «Верните нам аэродром, который у нас был, верните статус городского поселения», то есть верните то, что противоречит логике развития. Вот либо что-то такое, совсем не связанное с реальностью либо отсутствует совсем. Очень часто, когда начинают разговаривать о будущем, начинается запросто разговор о лодочных моторах. «Какие у вас планы вообще стратегические?», «Какие планы?» – «Надо пять лодочных моторов купить». Его можно понять, потому что у него без этих лодочных моторов встанет туристический сезон. Человек организацией рыбалки занимается.
И такой технологии, как самосбывающееся пророчество, о которой говорит наш друг Тимофей Нестик, психолог, изучающий психологию будущего, там не формулируются. С одной стороны, это минус, потому что это наполнено какими-то фантазиями, благими пожеланиями. С другой стороны, это плюс, потому что все-таки нет негативных сценариев. Вот эту историю, что малые города вымирают, сейчас все закроется и так далее, как правило, рассказывают наблюдатели, люди вроде меня. А вот люди, которые там живут, они немножко в других терминах это воспринимают.
Мне кажется, это связано с некой реалистичностью нахождения на местности. Почему там нет фантазии? Потому что люди понимают, что действительно не так уж много можно изменить. Задают вопрос: «Какое у вас идеальное будущее?», «Дурак что ли какой-то, про будущее меня спрашивает?». И поэтому они не сваливаются в такое фантазирование. То есть люди довольно реалистично себя оценивают.
И чтобы закончить вопрос, связанный с хронотопом, то есть с восприятием времени – они не очень-то хотят в будущее. Вот это самое важное. Мы все думаем, что люди, которые занимаются развитием малых территорий, сейчас придут, дадут им социальные технологии какие-нибудь хорошие и обязательно их всему научат. Это же очень важно – учиться всему, тренинги проходить и так далее. Сейчас мы их всему научим, они с радостью научатся и начнут что-то делать. А на самом деле, все совершенно не так.
На людей-прогрессоров очень часто смотрят, как на сумасшедших, которые из будущего прилетели и показывают какие-то инопланетные фокусы. Чтобы человек искренне втянулся в обучение, он должен поверить в это. И вот люди, которые занимаются именно обучением команд в малых городах, они могут рассказать – как сложно вовлечь в процесс работы. Реально есть некоторый барьер. То есть мы думаем, что у них там как-то не так все, им надо помочь побыстрее преодолеть этот разрыв времени, чтобы они жили все в современном времени с этим самым манговым рафом. А это не так. Они, скорее, хотят остаться в своем времени, чтобы в нем было все хорошо, вот как раньше, только еще лучше. Вот примерно такое отношение ко времени. И социальное пространство немножко другое. Оно, скажем так, везде такое, но есть тенденция, что чем меньше территория, тем сильнее эффект социального микрокосма. То есть все люди, которые живут в этом поселении, это все собеседники данного человека. И все его поступки, дела, они так или иначе оцениваются всеми, проецируются на всех. И сделав что-то, он получает общую оценку. Это очень важный фактор, например, при том же развитии. Люди из числа местных очень редко предлагают какие-то смелые прорывные идеи – «Вот сейчас мы здесь что-то поменяем», именно потому, что они соотносят себя с этим микрокосмом. То есть, какое значение имеет этот поступок. Открытие там какой-нибудь точки кипения в деревне Черный отрог. Как на меня посмотрят? Есть некоторый масштаб территорий, где эффект микрокосма просто полный. Все люди – собеседники. Любой поступок становится сразу же общим. Этот порог где-то начинает разбиваться, и уже небольшой городок с несколькими тысячами человек – это уже несколько разных тропок, по которым люди ходят. Они все пересекающиеся. Но какая-то частная история, допустим, активиста, который что-то свое затеял, делает, на других не смотрит, с кем-то конкурирует, он, в общем, возможен. Вот мой, собственно, один из любимых сюжетов – это Мария Клочева в Каргополе и ее история с «Марусиным домом». Каргополь – туристический город, там есть свой такой популярный туристический трек, а у нее свой альтернативный, она его развивает. То есть это возможно, но все равно из всех микрокосм там сильнее. По сути, чем меньше поселение, тем больше эффект домового школьного чата. Вот считайте, что это люди, которые живут в домовом чате. И кроме домового чата, почти ничего нет. То есть их отношения более близкие, они поэтому более сложные. И соответственно, их иногда очень трудно вскрывать.
И заканчивая тему социальности, у них другое отношение к теме с местной историей. Мы часто малые города воспринимаем в контексте местной истории. Они, конечно, чтят свою местную историю, где она имеется и не имеется. Нельзя сказать, что они как-то к ней очень критически относятся или ее осмысляют. Поэтому такой вот общий федеральный исторический винегрет добавляется к винегрету локальному. Но здесь важный момент. Внутренний образ истории и местный могут очень различаться. Самый яркий пример, это «Пермь великая», описанная в романе Алексея Иванова, известный под вторым названием «Сердце Пармы». Я там объездил все эти места: Чердынь, Пакчу. Там они немножко другие, они же все были перенесены несколько раз с одного места на другое. Но вот природа, пространство, этот сетинг Иванова. А все местные жители, которые там живут, на это все смотрят довольно странно. По идее это такой источник, к которому надо припасть что-то и из него выкачивать какие-то ресурсы. Они, скорее, от него отстраняются и формируют свою местную историю. Вот, например, в Пакче это история колодцев. Они восстановили несколько колодцев и водо-серных источников. И вот с этим «Сердцем Пармы» они ассоциироваться не очень сильно-то и хотят.
И может быть, последний момент такой. Шли от биологии, пространства, времени, истории. У них еще немного другое отношение к животным. Было какое-то исследование, оно в «Платформе» тоже было представлено лет пять назад, не помню кого, Крууса вроде. Там были главные страхи россиян, помните? И там в числе одного из страхов были бездомные собаки. Все так удивлялись: что это такое? Ядерную войну боятся примерно так же, как бездомных собак. А в малом месте возникает странный союз, немножко необычный для нас, городских жителей мегаполиса. Союз, что их не истребляют, с одной стороны, то есть они бегают, но в дом их не берут, так редко. И возникает такой отбор городских животных, которые вроде как все меченые, а при этом кто-то о них все время заботится, и они живут в какой-то такой полуестественной среде. Но периодически эти границы нарушаются. Вот, например, на меня вчера на окраине Читы пытались напасть. И вот это интересно, с какого порога начинается уже такая современная городская жизнь. Вот я видел, например, карликовых пуделей в Вычегодске. Город маленький, 4 тысячи, но вот какие-то люди есть, которые их выгуливают.
То есть подытоживая, они такие же, как мы, но они живут в других условиях, поэтому у них другое пространство, оно более свободное внутри. Но оно при этом требует периодических перемещений куда-то совсем далеко. Вот яркий пример, недели две назад ездили из одной деревни в другую, две тоже туристические деревни с автобусом местных жителей. И там они говорили: «Ой, спасибо вам огромное, что вывезли. Я так всю жизнь мечтала в этой деревне побывать». А она в 70 километрах находится. Что, неужели за всю жизнь нельзя было доехать? Какие-то есть другие причины.
Отличаются восприятием времени, социального пространства, потому что присутствует вот этот эффект микрокосма. И в целом, немножко другая жизнь.
Алексей Ф.: Они большие нарративы считывают? Можно ли их захватить тем, что сейчас называют «большой повесткой»? Например, СВО, Украина, глобальные разломы или внутренние какие-то истории? Или этот микрокосм настолько закупорен, что если их совсем за живое не взять, типа мобилизации, которая вторгается в этот микрокосм, начинает выдергивать оттуда людей, то это такая далекая картинка?
Дмитрий Л.: Я вот как раз упоминал про то, что историческое время по-разному воспринимается, и о том, что они не очень хотят жить вот в том, что называется модернити современностью. Чем больше таких событий пройдет мимо – тем лучше для них, потому что лучше, чтоб ничего не менялось, потому что эти изменения непонятно к чему приведут. Есть огромный опыт восприятия нескольких поколений, накопленный опыт восприятия негативных изменений – любые изменения заканчиваются либо каким-то обвалом, там деньги обвалились, либо вообще распадом, либо войной какой-нибудь и так далее. И в общем, это люди опытные и тертые в социальном плане. То есть у них огромный опыт избегания вхождения в историю. И поэтому чем меньше – тем лучше.
Вот эти события крупные воспринимаются как личные. Если человека лично это касается, у него есть свое восприятие. Другие люди смотрят на такие же личные истории и тоже формируют свое восприятие. И там есть, соответственно, двойная картинка. С одной стороны, та картина, которая транслируется сверху, вот эти месседжи, нарративы и прочее. И есть некий обобщенный опыт людей снизу, у которых он тоже свой, они имеют свое представление об этом.
Вот эти два фактора. Жизнь немножко в другом времени, оно более длящееся, и эффект микрокосма, когда все смотрят друг на друга, очень сильно меняет отношение к мобилизационным повесткам. Мобилизационным в смысле мотивационным.
Алексей Ф.: Но если так в лоб задать, это их война или не их война?
Дмитрий Л.: Смотрите, на текущий момент есть два дискурса: публичный и некий подавленный дискурс. Он и у нас есть, и у них есть. У них зона подавленного дискурса, то есть зона публичного дискурса уже, а зона подавленного шире и сильнее. Соответственно, сказать, что сильны ура-патриотические настроения, значит, просто солгать. Нет, они не сильны. Собственно, за все время, побеседовав с сотнями люлей, я не встретил ни одного народного политолога, то есть ни одного человека, который мне бы начал вещать по социал-демократическому вестнику или какую-то там правду. То есть ни одного народного этнографа, который начал бы мне объяснять этническую разницу между воюющими сторонами. То есть это некоторая система, понимаете, это не может быть случайностью. Потому что ты постоянно встречаешь людей в разных контекстах и общаешься с ними. И вот так или иначе политический дискурс ушел в зону подавленного. Они может и имеют какие-то свои представления, но сидят тихо и где-то, может быть, на кухне обсуждают, а может быть, даже и на кухне не обсуждают.
Когда идет об этом разговор, я не могу сказать, что это постоянная тенденция, мифориторическое или мифориторизированное представление о событиях, оно довольно часто проявляется. Что я здесь имею в виду? Это пересказ очевидных околовоенных сказок, которые у нас сочиняются как вид народного фольклора уже много десятков лет. Чечня у нас ассоциировалась с какими-то прибалтийскими снайпершами, белые колготки какие-то. Вот это все было некоторым откровением, когда я увидел людей вживую все это обсуждающих. А что самое интересное, что в некоторых случаях были люди, которых лично коснулась эта ситуация. Человек, у которого сына забрали во время мобилизации, рассказывал истории про то, что был какой-то бой с бандеровцами на саперных лопатках. Вот этому я не готов давать какое-то объяснение. То есть можно придумать какое угодно объяснение, что люди пытаются как-то уйти в другую реальность и прочее. Я такое видел, это немножко странно, не то, что странно, но вот есть такой момент. Но вот, в целом, отношение такое прагматиное. Не склонны люди об этом распространяться.
И это никак не подталкивается пропагандой. Вот везде, где я был, очень слабо представлена наружная реклама и наружная пропаганда военных действий. Есть, как правило, информационные щиты – куда обращаться, если ты хочешь стать добровольцем. Но вот такого ура-патриотического слоя в пропаганде я не видел вообще почти нигде, и не только в малых городах, да и в крупных центрах, в общем. Она не подхватывается, если бы даже шла изнутри.
Рассказывают, что везде есть какие-то группы патриотов, что они куда-то что-то двигают, но это, скорее, из среды местной общественности. Но при этом, что важно? Почти везде, где я был и где есть какая-то емкость населения, где население чем-то занимается: клуб, ДК и прочее, там шьют для армии. В какой-нибудь доме, где занимаются реабилитацией пожилых, есть свой отдел кройки и шитья. И вот, пожалуйста, там стоит машинка и там говорят: «А вот мы для армии делаем». Дом культуры тоже самое. Это всенародное движение, оно такое полуволонтерское и практически всюду.
Алексей Ф.: С одной стороны, вроде бы не касается история или не хотят, чтобы касалась, есть какая-то дистанция, с другой стороны, все-таки шьют.
Дмитрий Л.: Потому что это свое, как мне кажется. Потому что это все-таки мы, а это наши родственники. Вот, наверное, еще один пункт, которого я коснусь. Что хотел бы сказать? Все, что я говорю, не имеет никакого отношения к идеологии, политике. И не нужно пытаться это интерпретировать каким-то образом, что мы измеряем градус настроений – они готовы до конца там рубиться, не готовы? Я не об этом говорю. Я говорю просто о том – как люди воспринимают.
Но видно невооруженным глазом, что текущая война – это язва на теле малых территорий. Она воспринимается там острее. Почему? Потому что народу там живет меньше, а участников гораздо больше в процентном выражении. То есть в каждом из небольших мест там находятся минимум несколько десятков человек. В ряде мест, я специально ничего нигде не искал, на самых небольших территориях уже по несколько фотографий «наших местных героев, погибших там». И в самых небольших, село в 3 тысячи человек, двое погибли, третьего обсуждают.
Вот я был в Самарской области сразу после Нового года. В тот день, когда хоронили погибших от ракетного удара. И в каждой деревеньке про кого-то рассказывают: про соседа, еще про кого-то. То есть нельзя сказать, что это беда, которая выкосила все население, но это язва и она кровоточит. И также в отличие от крупного города, где мы не очень видим эти эффекты, эта язва кровоточит с осложнениями. Почему? Потому что социальная структура маленького города другая. Там другая повозрастная структура, то есть там больше женщин, больше людей старшего поколения. А если там деревня небольшая, то я был в ряде мест, где вообще моложе 55 никого нет. И вот эта средняя категория там и так малочисленная. Можно встретить школьников даже в самых неожиданных местах, которые тусуются, что-то делают. Но вот людей студенческого возраста уже в ряде мест встретить трудно, а в некоторых их вообще нет.
Соответственно, вот эта когорта людей 30+ занята отходничеством, то есть их физически нет часто на месте. А это некоторая проблема для территории, потому что там есть, особенно если сельская территория, спрос на обычную физическую силу – дрова поколоть. И часто, если вы зайдете в чат небольшой деревни, например, деревня Рождествено под Самарой, там постоянно кто-то предлагает услуги – «Поколю дрова». То есть видно, что у человека начался абстинентный синдром или что-то такое, и надо срочно что-то сделать, и дает объявление в эту группу – «Поколю дрова».
Алексей Ф.: Извините, а чаты везде есть?
Дмитрий Л.: Чаты много, где есть. Если совсем маленькая деревня, их, как правило, нет. Но если деревня от тысячи человек, как правило, чат есть. Он может быть уже немножко протухший, там уже ничего живого не обсуждают. Он замусорен объявлениями.
Алексей Ф.: Он в WhatsApp, Telegram или где?
Дмитрий Л.: Очень часто в Viber, кстати.
Алексей Ф.: В Viber, да?
Дмитрий Л.: Удивительно, да, но вот есть места, где в Viber. И что получается, ядро вот этой самой дефицитной категории оказывается в другом месте на некоторое время, причем на длительное. То есть это уже сама по себе проблема. Эти люди подвергаются риску, причем очень существенному. Эта проблема усиливается. Эти люди получают ранения, они все находятся под риском того, что кто-то из них погибнет. Это уже горе и совсем тяжело. И последний риск, который пока не осмыслен, это некое горнило, и люди, которые этот опыт прошли, будут использовать его как-то дальше. И есть очень большие сомнения, что они его будут использовать в тех местах, откуда они туда попали. То есть, что они вернутся обратно в эти свои замечательные малые города и села и будут жить там. Во многих случаях это вряд ли. Есть высокий риск, что эти люди не вернутся уже обратно, что для них это станет каким-то социальным трамплином дальше, непонятно куда. Территории обескровили не в смысле, что люди безвозвратно ушли, но усилили выездную миграцию.
И конечно, если мы возвращаемся к теме этого подавленного дискурса, люди говорят, а потом в конце интервью или после выясняется, что «вот у меня там брата забрали», причем человек занимается патриотической пропагандой. Вот личная такая история. И отношение немножко к этому меняется. Или проходит интервью, происходит пауза, и человек просто говорит: «Слушайте, скорее бы закончилась эта война». Есть такой момент.
В общем, если подытоживать, то о публичном дискурсе уже почти не говорят вообще, ни хорошего, ни плохого. То есть нет ни позиции критической, ни позиции ура-патриотической. Она на публике, как правило, не представлена, то есть об этом не разговаривают. Зона подавленного значительно шире, но при этом все об этом знают. То есть в отличие от нас они все знают: у кого кто, где находится, кого забрали. И когда об этом идет разговор, на это тоже смотрят – человек, например, с кем-то встречался: «Светка теперь непонятно куда», и так далее.
Встречается мифориторическое представление, такой вот именно рассказ военных каких-то сказок, анекдотов. И странным образом он встречается у людей, которые к этому имеют отношение. Это может быть вид какой-то самотерапии. Совершенно не распространена народная политология, народная этнография. Вот все то, что мы видим в Facebook. Да, споры тоже редкое дело.
И последнее, война – это такая социальная язва, которая постоянно кровоточит и кровоточит с осложнениями.
Андрей Шалимов: Дмитрий, большое спасибо за такую вводную часть. У меня несколько вопросов. Наверное, начну с совсем проблематизирующего вопроса. Вот бывает такое, что с малым городом происходит какое-то стихийное бедствие, и фактически встают вопросы: оставлять этот город, восстанавливать его или, собственно, что-то ещё? И почему-то принято у нас в стране восстанавливать, спасать. Но вот кто-нибудь спрашивал вот этих жителей о том – а может быть, они бы хотели переехать в большой город, как-то поменять свой уклад и так далее? Я приведу примеры. В прошлом году в Красноярском крае сгорел город Уяр, практически сгорел целиком. Несколько лет затопило город Тулун, его смыло с лица земли. И было принято решение восстанавливать. Причем восстанавливается это обычно достаточно таким промышленным способом. Дома строятся не самым лучшим образом. В общем, это отдельный разговор. При том, что ни Уяр, ни Тулун не назовешь прекрасными местами, стремление жить в которых каким-то образом поощряется. Вот такой вопрос. Зачем людям сохранять такие города, если уже что-то такое произошло?
Дмитрий Л.: Спасибо большое. Хороший вопрос. Я бы его разделил на две части: на такую конкретную и теоретическую. Про происходящее в Уяре, к сожалению, ничего не знаю. А Тулун знаю довольно неплохо. В Тулуне было два вектора. То есть часть жителей тосковало по своему какому-то старому укладу. Но тут такая история, когда медленно погибает старый уклад, он постепенно разрушается. Вот я проезжал какой-то совершенно страшный город на границе Забайкалья и Иркутской области, Петровский завод, по-моему. Вообще производит какое-то совершенно чудовищное впечатление, но он при этом продолжает как-то ковылять. И вот в таких местах мы даже проводили исследования. Очень сильна инерция своего места. То есть почему? Я чуть-чуть позже скажу. Вот про Тулун. Очень многие хотели эти дома построенные, как вы говорите, некачественно, про них действительно было много критики, и про сам проект, и про то, что они очень плотно застроены. Очень много было критики всякой-разной, очень много было сомнений. Но, действительно, большинство хотело туда переселиться. Может быть, они поверили, может быть, для них это какой-то такой шаг выше по социальной лестнице. Но в общем, де-факто в Тулуне все это пришло с проблемами, но сейчас вроде как все довольны. То есть жители довольны, общественность местная тоже довольна. Я вот с Юлей Булдаковой разговаривал перед Новым годом, это Фонд развития Тулуна, общество называется «Люди дела». В общем, сейчас, спустя несколько лет, они с этим сжились. Есть два момента по поводу того, почему их не получается убирать и расселять куда-то? И почему это шаг рискованный? То есть почему, в чем причина, как мне кажется, инерции вот этой социальной среды? Она в каком-то биологическом начале в человеке. Вот в Древнем Риме были такие Пенаты, а Пенаты, это боги домашнего очага, твоего дома. И человек, он живет в какой-то местности, особенно если он живет несколько поколений, начинает ее любить и любить все. Мы встречали и патриотов своего места в городе. Мы проводили исследование в одном из северных городков, где до сих пор есть балки какие-то, еще что-то, на тему того: «А вы готовы переехать куда-то?». Не в Пытяхе, подчеркну. И они все держатся за эту местную среду. «Вот у нас там какой-то спортклуб есть, мы туда ходим». То есть это Пенаты для человека, и это очень трудно преодолеть. А второй момент, про систему расселения. Все-таки неслучайно появились эти точки на карте. То есть какие-то случайно, а какие-то нет. И если город существует очень долго, значит, он находится на своем месте в этой системе расселения. С ним может происходить все, что угодно, но если его просто так взять и куда-то скрыть, то последствия будут очень тяжелыми, как мы видим по всему опыту советского проекта. Сколько городов не переносили, всегда это было с болью и трагедиями. И в общем, нельзя сказать, что какой-то опыт из этого был особенно удачный.
Андрей Шалимов: Вот такой вопрос. На самом деле, сибирские города, многие из них же сложно назвать Пенатами в таком смысле, про который вы говорите, потому что, если копать, то там одно-два поколения, максимум три поколения в этом городе живут. Я сам сибиряк, у меня есть сибирская история, я понимаю примерно глубину, по которой расселение происходило, и оно там не очень глубокое. Любовь на определенном этапе появляется, через два-три поколения к этой территории. Но при этом советский проект же подразумевал то, что происходит какое-то распределение, переселение. Появлялись новые проекты, и люди ехали за ними.
Мы сейчас живем в эпоху, когда вот это вот приземление происходит, привязывание к этим территориям. Потому что эти проекты не настолько привязаны. Опять же, привязывает к месту многовахтовая работа, поэтому женское лицо у этих малых городов, действительно, появляется. Это важно. И я хотел спросить, есть ли разница между провинциальными городами Центральной части России, Сибири, национальных республик, возможно еще где-то? Есть какое-то своеобразие? И вот в чем оно?
Дмитрий Л.: Хороший вопрос. Но мне кажется, что своеобразие есть вообще практически у каждого города. Хотя есть практически у каждого города и набор каких-то типичных элементов. То есть в нем что-то обязательно должно быть. Должен быть главный религиозный центр, главный центр образования. Там если чего-то из этого нет, то эти функции начинают тем или иным способом либо замещаться, либо город начинает страдать, например.
На места очень серьезно влияет разница, влияют региональные различия. Допустим, есть территории депривированные, есть, где влияние государства уже существенно сократилось по сравнению с другими. Например, Архангельская или Костромская область, там в малых городах гораздо сильнее проявляется местная кооперация, местная коллаборация, сотрудничество сообществ и выведение этих практик в экономическое русло. Вот очень интересно, что та же Архангельская область подается на какие-нибудь гранты, и очень много заявок с какой-то экономической составляющей, где люди пытаются найти какой-то драйвер, что-то придумать, сделать и совместно раскрутить.
Андрей Шалимов: Там это ТОСы делают?
Дмитрий Л.: Это ТОСы делают. И это не случайно, что Архангельская область, место, где очень развито это ТОСовское движение. Оно очень развито в Перми, в Пермском крае, в этих небольших городках Пермского края. Но юг и Сибирь тоже достаточно существенно отличаются даже от региона к региону. Потому что, например, Свердловская область и Пермский край, на самом деле, очень разные регионы и очень по-разному устроена локальная среда. То есть в Екатеринбурге принято, когда ключевой работодатель оказывает внимание территории. Вот он там что-то делает. Это и в Челябинске тоже принято, что, когда он что-то строит, то какой-то центр возникает. Может быть, это такая инерция этих старых городов-заводов.
Алексей Ф.: Нет, Дима, извините, я прерву. У меня вот как раз Алексей Иванов, вами упомянутый, как-то объяснял эту разницу между Екатеринбургом и Пермским краем. В Пермском крае промышленность формировалась на основе крепостных, а Екатеринбург на основе вольных. Вот если не ошибаюсь, такая модель была у него. И разный образ закрепления за предприятием, вот еще в те времена, в XVIII век, по всей видимости. И он выводил из разных моделей крепостничество или, наоборот, привлечение вольной рабочей силы.
Дмитрий Л.: Да, может быть. Но вообще исторические факторы играют очень большую роль. Вот там, где было сильно, например, старообрядчество, есть эффект герметичности социальной среды, который сами они очень часто не могут объяснить. Потому что таких активно верующих немного, а вот привычка все куда-то ныкать и дела решать втайне от других все равно остается. И вот я вот упомянул «Пермь великую». Да, это вот такие раскольничьи места в свое время, раз уж мы продолжаем тему Иванова, и поэтому они у себя что-то делают, они не очень на внешний раздражитель откликаются.
В городах национальных республик, конечно, другая еще ситуация. Там есть фактор национального, своими словами называя, фактор местного нацбилдинга. Он практически везде играет очень существенную роль – вот этот город чувашский, в нем, если ты чуваш, то ты можешь делать какие-то вещи. Например, открыть культурный центр и подать какую-то заявку на развитие чувашского языка, например, фольклора и еще чего-то. И это будет поддержано всецело, всемерно, будет пользоваться каким-то почетом, приоритетом. Тоже самое в Осетии, например. Там есть вот этот фактор. То есть у этой принадлежности к титульной нации есть свои бонусы, и эти бонусы в малых городах, поскольку они депривированные, люди стараются максимально использовать. Это всевозможные землячества.
Вот помните, как-то мы были во Владикавказе, там человек восстанавливает фамильную башню. И собственно, это довольно старая идея – восстанавливать башни. Там их очень много. Башни осетинские принадлежат тем или иным родам. У этих родов есть, соответственно, представители. И эти башни рушатся, и там все время пытаются привлечь народ, чтобы он о них заботился. И одно время этим занимался один человек без местных корней. А вот, когда местный начал этим заниматься, дело пошло гораздо лучше. То есть у него получается договариваться. В этих небольших совсем местах находить каких-то спонсоров для этих проектов.
В нацреспубликах это реально очень серьезный такой фактор, который сильно влияет на локальную среду. Он где-то может расколоть, где, например, разные живут народы. Я не буду пересказывать эти историй про дележку, отжим бизнеса и так далее. Не отжим, а такое вот раздвигание границ. Но это есть, на самом деле.
Сибирь очень разная вообще сама по себе. И я бы сказал, что какой-то модели общей Сибири, может, даже и нет. Потому что в Алтайском крае свой уклад и свои места. А насчет Новосибирска и Омска. Омск – это город-регион типа Петербурга. А там в общем-то все малые городам, так или иначе, отделены какой-то стеной от Омска. Красноярск и Иркутск, там тоже все очень разное. Но есть одна общая черта в Сибири – там процесс агломерирования быстрее. То есть несмотря на то, что они далеко от Москвы, но пропорциональное сужение периферии идет, в общем и целом, быстрее, чем в Центральной России. И вопрос действительно о том, что делать, например, с каким-нибудь Кисилевском. Да, он, конечно, опять скоро встанет.
Юлия Грязнова: Дим, а скажите, пожалуйста, вот люди, вот они живут, хотят восстановить старое. Это тоже понятно. Не очень думают про будущее. Но при этом они же как нормальные все люди понимают, что мир достаточно быстро меняется, и меняться все равно приходится. Если не меняются они сами, если у них нет собственного образа будущего, это означает, что они его должны кому-то делегировать? Мне просто интересно – какие отношения тогда с властью? Во-первых, кому они делегируют: местная, региональная, федеральная власть? И как они тогда относятся к власти или к этому субъекту, которому они делегируют?
И простите, второе замечание, очень интересно про собак, тут я просто вспомнила Тель-Авив и Стамбул, та же самая картина. Несмотря на то, что один город там на миллион, а второй на 15 миллионов, все то же самое: кошки и собаки находятся в общем доступе, они никому не принадлежат, нигде не живут, и их все, соответственно, кормят. В этом смысле это необязательно, это, видимо, какая-то такая странная штука, которая складывается сама по себе, и необязательно в маленьком городе. Вот про власть и про будущее?
Дмитрий Л.: Да, спасибо большое. Вот я как раз про собак вбросил именно для того, чтобы в подобном русле стимулировать дискуссию. Может быть, мы очень многого сами про себя не знаем. Это такая южная черта, в общем. И может быть, там, где мы становимся сами собой, мы становимся южными людьми.
Юлия Грязнова: Вот, кстати, или восточными.
Дмитрий Л.: Или восточными в чем-то, да.
Юлия Грязнова: Я почему-то думала не столько про юг, сколько про восток. Вот смотрите, Греция, какая-нибудь Черногория или Болгария – это вообще ад просто. Все время худые больные коты, ни один человек просто палец им не протянет, воды не нальет, не то, что молока. То есть худые несчастные животные. А дальше ты приезжаешь в Стамбул, нигде нет таких толстых собак, просто нигде. Они просто закормленные. И коты не жрут ничего, потому что они переели. Везде лежит кошачий корм, его уже никто не ест, потому что уже невозможно, их уже тошнит от него. Поэтому это, может быть, скорее восток, чем юг. Так вернемся про власть? И кому они делегируют образ будущего?
Дмитрий Л.: Да, кому они делегируют образ будущего? Вот меня попытки ответить на этот вопрос привели в совсем другое место. Есть одна аудитория, которая является буферной для всех групп, которые проживают в этих местах, и все делается там ради нее, это дети. Вообще у нас общество детоцентричное, а в таких местах оно еще более ярко детоцентричное. Через детей решаются практически все конфликты и противоречия, которые там есть, а они там есть в большом количестве.
Вот нам всем известен сюжет, что неместных там не любят. Раньше в деревне любимое развлечение было собраться, пойти приехавших городских студентов побить и так далее. Есть всегда напряженные отношения между какими-то группами, допустим, связанными с тем же государством, социальным сектором и старожилами места. Они не очень любят друг друга, вот те, кто живет там всю жизнь.
Но при этом, когда речь идет о работе с детьми, все противоречия снимаются. Люди понимают, что это делается для блага. И в общем, это реально работающая технология. Я в ряде мест видел, как конфликты или какие-то тяжелые отношения между разными группами разрешались через совместную активность детей.
Пытаясь все-таки выйти на ответ на вопрос про власть. Они сами в будущее не хотят. То есть они дожили до какого-то времени, живут в этих местах, их в общем-то все устраивает. Потому что они выжили, они делают то, что им нравится, и особо не интересуются тем, что об этом думают остальные. А нас, всевозможных исследователей и прогрессоров, часто считают сумасшедшими. Но для своих детей они такого будущего не хотят. То есть они прекрасно понимают, что по тем правилам игры, которые есть, они, скажем так, аутсайдеры. И для своих детей они хотят только самое лучшее. А это часто дает результат, что в этих местах возникают такие амбициозные дилеры в разных сферах. Я вот с женщиной из Нижнеудинска недавно беседовал, которая преподает в местной музыкальной школе. У них там какие-то грандиозные успехи. И соответственно, центр ответственности за будущее, это вот, по сути, дети. То есть не в смысле того, что они решают, а в смысле того, что все должно делаться ради них.
Соответственно, отношение к власти – сложный вопрос. Власть для них очень разная. Они на нее все время жалуются. Сколько я ни разговаривал с главами небольших поселений, это постоянная история про то, что на них кто-то нажаловался. Они на эти жалобы откликаются, и по итогам этого возникает определенное какое-то взаимодействие. Но при этом какие-то жалобы считаются справедливыми, какие-то люди попадают в категорию «трудных», то есть жалуются по любому поводу. Как-то у них через жалобы устанавливается коммуникация.
При этом я бы не сказал, что там какой-то запрос на образ будущего присутствует. Бывает так, что образ будущего происходит от этих людей, от администрации. Еще раз, базово они их воспринимают, как людей, выполняющих определенную работу, получающих довольно большие, по их мнению, деньги, которые должны делать все. И если они чего-то не делают, правильно, на них надо нажаловаться. Но среди этих людей попадаются люди с идеями.
Вот недавно в одной небольшой деревне мне попался мэр, как мэр, бывший глава деревни, его теперь слили, он там заместитель главы поселения по этой деревне. У которого мечта – наполнить водой высушенный пруд. Была деревня, в ней была когда-то усадьба, в ней был когда-то пруд. И у него такая идея фикс – этот пруд вернуть. А перед этим был небольшой мост, мост он уже вернул. Но чтобы вернуть пруд, надо как-то жителей туда агитировать. И в общем, каждый раз это задача. То есть он должен объяснить местным, что вот это необходимо сделать, что это в хорошем смысле тебя обязательно коснется. То есть убедить их, чтобы они на это дело откликнулись.
Коротко, очень низкая емкость социальной среды, и я бы сказал так, что на уровне центра ответственности они свое будущее не делегируют никому.
Алан Мисиков: Я из Ставропольского края, из города Ставрополя. Имею корни и родителей отсюда. Вот я хотел бы уточняющий вопрос. Вы сказали, что привели в пример город, где пять двигателей. Вот прогресс, с точки зрения этого человека, заключается в покупке пяти двигателей, которые и позволяют ему работать, жить и так далее. Вот я понимаю, что из ваших слов, что нет запроса на изменение, то есть уклада. Есть некий запрос на какой-то прогресс, в смысле технологический и так далее, но в рамках этого уклада. Так вот, у меня вопрос уточняющий. А есть ли ощущение у этих людей угрозы на приход этого прогресса?
Дмитрий Л.: Есть.
Алан Мисиков: Вот как это можно? То есть гарантирует ли это негативную и, может быть, агрессивную реакцию на социально-культурные изменения?
Дмитрий Л.: Да, спасибо большое. Мне кажется, очень такой серьезный вопрос. Потому что по нему должна быть накоплена какая-то богатая фактура и при этом фактура убедительная. А вот как раз именно опыт последнего времени показывает, что с будущим таких мест власть старается работать очень осторожно. То есть везде, где намечаются какие-то изменения, как правило, идут либо исследования, либо постепенные попытки эти изменения продвинуть, но при этом, не говоря, что это будет происходить там. То есть вот именно такой яркой ситуации, когда пришли изменения туда, откуда их не ждали, они случаются редко. И довольно часто они выливаются именно в конфликтную реакцию.
У меня недавно был такой интересный опыт, я общался с людьми, которые активно участвовали в протесте ШИИСа в свое время. Я не буду говорить где, там несколько территорий. И у них было такое постпротестное состояние, потому что они еще не вышли из протеста и у них нарративы из этого дискурса продолжают повторяться. Что Москва что-то у них построила, Москва пришла. То есть там все строилось на протесте против Москвы. А с другой стороны, было ощущение, что вот хорошо, вы выиграли свой протест, изменения сюда не придут, теперь они сюда не придут никогда. Это месседж, который приходит с верхних этажей власти туда, и он очень ярко виден, на самом деле, там чувствуется. И чувствуется приглушенное состояние, что вроде протестовали, вроде добились всего. А дальше теперь что?
И в общем, я бы сказал так, что сам уклад воспринимается как ценность. Попытки его изменить очень часто уже заканчивались неудачей даже на ранних подступах. И поэтому так резко что-то менять осмеливаются немногие. И те, кто что-то новое делают, они, на самом деле, имеют определенный опыт работы с местными, те же крупные предприятия, которые там строят новые производства и так далее. Значит, за этим стоит какая-то, в общем, серьезная история.
Но мне кажется, что еще здесь есть такой важный сюжет. Люди, которые изменения двигают, и местные сообщества очень часто не могут понять и найти друг друга. Там есть примеры, когда открывается какое-то очень, допустим, компактное, но открытое для работы предприятие «экономика впечатлений». Рядом небольшой городок, вроде несколько тысяч человек живет там, молодежь даже есть, все есть. Никто не хочет идти туда работать, потому что работодатель говорит: «Да они там ленивые все». Да нет же, почему они все ленивые? Я их видел, они не ленивые. Есть определенная категория, кому западло, считают, что вот это то место, куда ходить не надо. И в общем, конечно, это очень серьезная история. И если мы говорим о каких-то таких микроизменениях, есть примеры, когда пытаются вот эту стену преодолеть. И лидер изменений находит себе на территории определенных союзников, и долго-долго работает там с этой средой. Ну, сначала перестают на него косо смотреть, потом начинают воспринимать как одного из местных жителей. Такие примеры есть. Но бывают и примеры, когда приходит человек с изменениями, против него начинается целенаправленная работа. Это запросто может быть. То есть эта работа с сообществами, она, в общем и целом, очень важная.
Алексей Ф.: Дима, я про депопуляцию хочу спросить. Они правда все в Москву хотят или на худой конец в Краснодар? Или правда ли, что все самые активные хотят уехать, а остается какой-то региональный пассив? Это такой устойчивый уже стереотип. Насколько он изнутри оправдан?
Дмитрий Л:. Он изнутри, как мне кажется, совершенно не оправдан. Но, если мы берем основную часть населения – это люди уже состоявшиеся, они по-своему все успешны. Они живут той жизнью, которая им, в общем, нравится. Они на многие вещи смотрят очень скептически. Очень много стереотипов. Про пробки в Москве. И, на самом деле, на них большой город действует очень раздражающе – это огромный стресс. Я это не только по нашим, я знаю по своим американским знакомым. У меня были очень близкие знакомые в небольших городках южного штата Нью-Джерси. Они очень страшно боялись ехать в Нью-Йорк так же, как мой дед боялся ехать в Бийск из Сросток Алтайского края. Потому что непонятно, куда машину ставить. Они просто этих правил не знают.
Насчет молодежи? Это очень специфическая аудитория для изучения, потому что я, честно, не силен в молодежных каких-то исследованиях. Почему? Потому что непонятно, как с ней откровенно разговаривать. Ты задаешь вопрос: ты хочешь уехать? Он тебе ответил «да» или ответит «нет». Ответит «нет» и уедет. Помните, у нас был когда-то опрос по одному из городов? Мы спрашивали: как вы считаете, в этом городе, как вообще жизнь? – «Да жизнь нормальная». Есть ли перспективы у него? – «Да перспективы у него хорошие». Собираетесь уехать? – «Да». И что у него в городе? Чем он думает? Непонятно.
Они уезжают, потому что у нас в стране социальная мобильность носит географический характер. То есть у вас повышение по социальной лестнице связано с географическим перемещением. Это не черта современной России и не только черта советской России, это черта России вообще. То есть в стародавние времена для того, чтобы понизить социальный статус человека, наказать его, отправляли в ссылку, причем филигранно, в ссылку разной степени удаленности. Это к вопросу о том, что система расселения имеет огромное значение для России. То есть одно дело – в Михайловское сослать, другое дело – сослать в Нерчинск. А совсем уж, если сослали на Сахалин. Они уезжают, потому что, во-первых, это естественная стратегия жизни – это просто та стратегия, которая написана. То есть молодой человек должен прожить жизнь. Он должен закончить школу, поступить в вуз, сделать карьеру и так далее. Но, если вуза в его месте нет, понятно, что он будет стремиться либо куда-то уехать, либо как-то дальше заворачивать свой трек подальше от этого города.
Есть один интересный сюжет. В Нижегородской области есть такая маленькая попытка эти потоки развернуть немножко в другую сторону. Есть небольшой городок Книгянино – бывший город Княгинин. Там, по-моему, с 2004 года существует университет. Сначала был институтом – сейчас он стал университетом. Он областной, то есть содержится из областного бюджета. И там большая коммерческая часть. Сам город – 6 тысяч населения. Студентов, по-моему, тоже там много. И что там получается? Что люди из соседних районов, а районы там в основном сельские, у которых нет 100 баллов на ЕГЭ, дай Бог, у них 70 есть – средний балл за 1 предмет. Они заворачивают туда, потому что там очень интересное практическое образование. То есть там IT-факультет, где есть, например, кабинет с AR, VR шлемами. У них стоит учебный сервер, например, для сисадминов. И там работал человек сисадмином – вот он у них преподает все эти серверные дела. Инженерный факультет – там стоит какой-то комбайн-рекордсмен. Как вводятся? Много базовых кафедр. Их партнер – «Ростсельмаш». То есть их обрабатывают уже на стадии учебы: где ты будешь работать?
И, в общем и целом, я уверен, что, с точки зрения финансовых потоков, это не плюс. В смысле, не в прибыли этот вуз. А вот, с точки зрения влияния на территорию, это очень существенный, такой интересный пример. Когда люди, которым не надо далеко уезжать, у них объективно шансов особо вырасти нет. А им дают максимально хороший уровень там, недалеко от тех мест, где они родились. И это очень хорошо видно. Там преподаватели из соседних районов. Человек заканчивает – он где-то там всегда рядом. И, на самом деле, точечно интересный пример. Можно ли его тиражировать и как? Это вопрос отдельный.
Но опять-таки, резюмируя то, что все яростно хотят сбежать в Москву – это совсем не так. Если бы те дефициты, которые есть в этих местах, были сглажены, снивелированы, то очень многие бы остались. А уезжают опять-таки по разнице спроса и предложения какого-то города. Человек должен пройти определенные этапы, и эти этапы связаны с географической мобильностью. Вопрос в том, как действовать в данном случае государству. Оно эти противоречия сглаживает, или оно их оставляет на самотек, или оно их усиливает?
Андрей Шалимов: У меня вопрос про то, как в маленьком городе становятся большим человеком? Откуда берутся, собственно, кадры? Мэр, управленцы каких-то предприятий и так далее. То есть, каким образом там построены карьерные лифты – в малых городах?
Дмитрий Л.: Спасибо. Интересный вопрос. Мне кажется, что он зависит от емкости человеческого капитала, социального капитала. То есть человеческий – это набор навыков и талантов, социальный – это набор связей. Если и тот, и другой – высокая вероятность, что местные люди будут занимать какие-то должности, посты, места. Она, в общем, есть и она повышается.
Значит, из наблюдений за людьми я делаю у себя, как правило, такие таблички, откуда, кто родом. Люди из топа, топ бывает разный – это топ бизнеса, это государственная власть – люди, которые занимают должности, глава района, его заместитель, это руководители муниципальных учреждений. И это просто люди, которые являются лидерами сообществ, как правило, это связано с бизнесом тоже, но с другим.
Одно время в политику старались ставить глав из соседнего региона или из того же региона, но из соседних мест. Таких людей довольно много. Значит, когда мэр – уроженец этого города, это не базовый сюжет. Как правило, мэр – это человек из какого-то другого места, значит, и к нему относятся, соответственно, исходя из сочетания факторов. Сколько лет он здесь работает? Что он за это время сделал? И как он позиционируется по отношению к предыдущему мэру?
У меня был, например, сюжет, когда нас возил водитель главы района на западе России, и он все время говорил: «Мы с главой района, да знаете, вообще». Он говорит: «Мы до Тюмени один раз на машине ездили. Что-то какая-то погода была нелетная, надо было срочно ехать. И мы с главой района до Тюмени доехали. Мы с главой района то, это». А потом я понимаю, что он о предыдущем главе района говорит, а не о том, с которым он уже больше полугода работает. Соответственно, почему про предыдущий, потому что он был из местных, а этот откуда приехал и так далее? Но, в общем, как правило, все-таки нет среднего портрета руководителя, но чаще встречается человек откуда-то из этого региона или из соседнего, обучившийся где-то в центре и туда приехавший. После нескольких пересборок этой команды там остается какая-то команда, которая может там работать. В удачных случаях она там оседает надолго.
Значит, муниципальные учреждения – то же самое все. Вообще это, как правило, неместные люди, которые с хорошим багажом. Там огромная конкуренция на рынке, имеется ввиду театры, музыкальные школы, клубы и прочее – там большая конкуренция за кадры, с одной стороны. С другой стороны, сильные люди, которые хотят в какие-то другие места. И очень часто встречается сюжет, когда «я была против того, чтобы возглавить этот колледж, не хотела, меня уговорили, я здесь 8 лет уже сижу». И, в общем, это довольно частое явление. И довольно часто такие немножко сложные отношения с местными у руководителей, вообще у всей этой муниципально-бюджетной прослойке. Она очень часто состоит не из уроженцев этих мест – это люди с более высокой зарплатой, как правило, а все это знают. Это очень сильно влияет на отношение к ним. И между ними, и жителями, как правило, нужно устанавливать мосты. Если они эти мосты устанавливают, они работают, как правило, по наблюдениям. Если не устанавливают, возникает такой феномен, что город живет сам по себе, а эти номинально лучшие люди живут сами по себе. И, в общем, это тоже довольно стандартный сценарий.
Андрей Шалимов: Но еще одна категория – это местные купцы и купчихи.
Дмитрий Л.: Это, как правило, уроженцы.
Андрей Шалимов: Они местные же, правильно я понимаю?
Дмитрий Л.: Да. Здесь я бы сказал так. Здесь местных гораздо больше. То есть понятно, что к ним тоже очень сложное отношение. Оно характеризуется очень часто встречающимся словом «бугор». Значит, их очень часто не понимают. Там реально тоже очень-очень много проблем. Но, как правило, это люди либо из самой территории, либо откуда-то из соседней, либо тоже из центра. Они должны знать эту территорию и на ней торговать, чтобы там жить. И, в общем, среди них много уроженцев этих мест и у них есть, в свою очередь, тоже трудности в отношениях с бизнесом уже региональным. То есть это такая особая категория. Они часто с другими типами лучших людей не пересекаются. Местный бизнес часто считает, что они им нужны только в виде доноров. А поэтому такой близости социальной среды и плотности нет, каждый рассматривает его как донора. Он поэтому, как правило, настороженно ко всему относится.
Например, мы один раз проводили стратсессию в одном из городов. Туда не пришел вообще ни один бизнесмен. А потом один из бизнесменов и его супруга, она была на стратсессии, владеет гостиницей, в которой мы останавливались, а у него был бизнес из реального сектора, нас повез на рыбалку и на рыбалке все рассказал, как там все устроено. А на стратсессии – нет. И бывали часто случаи, когда прямо на стратсессиях либо ругались, эта социально-бюджетная часть и бизнес. У них мнения не сошлись, и они прямо там устраивали, либо бизнес не приходил. Вообще это стандартная схема. Если ты пришел в новый город, начал искать сообщество, и кто-то назвался сообществом, начали с ним работать, очень высока вероятность, что бизнес на стратегическую сессию, организованную этим сообществом, не придет.
Алексей Ф.: Вообще там есть какое-то дворянское собрание? Лучшие люди города, где собираются? Там есть какая-то такая точка их консолидации? Или такого не существует?
Дмитрий Л.: Баня, охота. Если там есть охота вокруг. Нет, конечно же, все это есть. Они все конечно, безусловно, связаны. Другой вопрос, что они могут принадлежать к разным регистрам. Допустим, мэр города совершенно не обязательно должен с местным бизнесом иметь много дел. Потому что у него подчинение другое – он губернатору подчиняется. Проверяет его опять-таки районная или областная налоговая. А его проверяет постоянно кто-нибудь. Просто попробуйте проехать с мэром города в машине пару часов, чтобы ему никто не позвонил из налоговой, прокуратуры, еще откуда-нибудь – такого быть не может. Он постоянно находится в коммуникативной этой среде. И в ней он, как правило, на низшей ступени. Соответственно, внутри самой территории возникают несколько центров. Есть центр административный. Есть – бюджетно-муниципальный центр. Есть местный, локальный бизнес разной степени развития. Бывают очень развитые. И может выделяться отдельно такая группа как культурщики, то есть там, где есть культурная экономика. Ддопустим, школа и Дом культурыь могут дружить или могут находиться на разных сторонах этого процесса. И между этими группами часто возникают либо разрывы, потому что им незачем друг с другом общаться, либо какая-то конкуренция, либо барьеры. Я не говорю, что это базовый сценарий, но представление о местной социальной среде, как о такой группе страдальцев и единомышленников, на мой взгляд, неверное. В малом городе нет общего субъекта развития. Они никому не делегируют свои представления о будущем. И, как правило, сами их тоже не несут. И очень часто этого местного субъекта даже при желании не получается сформировать, потому что группы находятся в сложных отношениях друг с другом.
Алексей Ф.: То есть, скорее, это экосистема такая?
Дмитрий Л.: Это экосистема, безусловно. Это экосистема, в которой могут быть по-разному настроенные линии напряжения. То есть там может быть ток очень сильный, может быть ток слабый, а, может быть, ток иногда выключают, и у них все нормально.
Алексей Ф.: А какое идеальное третье место для такого города? Бар, клуб, библиотека. Не знаю, какой-то еще коммуникационный хаб, где есть все сразу, например, торговый центр?
Дмитрий Л.: Третье место для такой территории идеально любое, где есть движуха и активное сообщество вокруг. На самом деле, может быть абсолютно, что угодно. У меня были примеры совершенно потрясающей такой домашней обстановки в библиотеках. Недавно в небольшой городе Яренске Архангельской области сделали проект общественными силами – благоустройство набережной напротив библиотеки. Там отстроен небольшой кусочек, затрачена очень маленькая сумма. Видно, что там работы в несколько раз больше, то есть Минстрой бы взял за это раза в 4 больше, чем они там потратили. Почему? Они всех организовали, всех вовлекли. Вовлекли музей, вовлекли местный бизнес и так далее. Почему? Потому что у них принято в библиотеке встречаться.
Есть тот же самый город Вельск, где библиотека является таким хабом развития, потому что там команда, связанная с библиотекой, научилась очень здорово делать гранты. И они не только сами делают гранты, а они помогают другим тоже подавать как-то заявки. И они выступают в роли такого ресурсного центра, уже локального хаба. То есть мотивируют, помогают, как-то отслеживают, чтобы все это нормально выполнялось. И идет, в общем, такая большая движуха.
То есть центр может быть, где угодно. Если брать такой теоретический аспект, то все довольно, мне кажется, просто. Если большой город, в нем развиты все функции, там каждому сообществу, каждой группе есть свой шесток, свое место. В маленьком городе среда значительно меньше, и там выстреливает то, что выстреливает. То есть в каком-то городе очень мощная музыкальная школа, как в том же Нижнеудинске. Где-то совершенно потрясающая активность библиотек и частного туристического сектора, частной культуры, как, например, в том же Вельске. Есть примеры, где центр сообщества – это мастера, экономика, то есть люди, которые сами что-то делают и других вдохновляют чем-то заниматься.
И сколько их возникнет – это зависит от того, какой человеческий капитал есть. Если есть несколько центров, возникнет обязательно несколько. Они будут друг друга дополнять и так далее. Поэтому идеального варианта нет. Почему им становится библиотека? Потому что ее закрывают в последнюю очередь. То есть это достаточно живучая в нашей гос.системе учреждение. Поэтому пытаются понять, что делать с библиотекой, а на базе библиотеки уже что-то выстраивается. Но это может быть сообщество спортсменов, например, в городе Чупа в Карелии, там построено сообщество вокруг яхтинга, например. И тоже прекрасный такой центр.
Алан Мисиков: Библиотеки в регионах, где длинная холодная зима – места, локации, где просто можно пообщаться, находясь в теплом помещении, которое доступно?
Алексей Фирсов: Да.
Алан Мисиков: Еще тоже такой немножко уточняющий вопрос или реплика. Существует неформальное разрешение на деятельность, на вхождение бизнеса на территории в зависимости от величины и, наверное, природных каких-то факторов города? Я просто знаю, что эта проблема на Алтае, например, актуализируется. Когда есть градация «свой-чужой», и возникает вопрос – а пускать ли его с деньгами сюда? И насколько местное население будет принимать участие в этом процессе бизнеса?
Дмитрий Л.: Хороший вопрос. Вообще, мне кажется, это идеальный вопрос для обсуждения в профессиональном сообществе людей, которые развивают локальную экономику. То есть собрать человек, допустим, 20, чтобы каждый рассказал свою историю, как он этот порог преодолевал. И тогда возникнет какое-то общее понимание именно того, как пройти эти болевые точки. Все, что я видел – много таких сюжетов. То есть практически везде, где начинает работать бизнес, начинается сопротивление этой самой среды. А если человек совсем не местный – это вообще с рисками. Но мы, например, были на одной из территории. Регион недалеко от Москвы. Там тоже туристическая экономика. Такой семейный бизнес – отель, совмещенный с музеем, животные и так далее. Мы уехали – его в эту ночь сожгли. По общей динамике напряжения такие сюжеты постоянно где-то возникают.
Алексей Ф.: Если мы про одно и то же, Дмитрий, говорим, то там вполне возможно не пожар, а все-таки поджог.
Дмитрий Л.: А все время говорят, что вполне возможно пожар. А какой-то процент этих случаев связан с некоторыми действиями или бездействиями. Там по-разному. Но такое, в общем, бывает. И вот это вот «сожгли» много раз попадалось, на самом деле. Это не базовый сценарий. Так или иначе бизнесмен свою дорогу найдет. Это люди, у которых энергии больше, чем у других. Есть территории, которые глубоко вообще увязли в этом, то есть местные их не принимают, и все. Что ты ни делай, они и работать не хотят, и как-то свои стратегии реализуют в другом месте.
Значит, способом, которым это обходилось и который я видел, эти противоречия сглаживались, снимались – это какие-то активности для местных, которые поддерживаются изнутри. То есть, грубо говоря, поиск союзника среди самой не принимающей тебя среды. В одной деревне в Центральной России, там есть туристическое место, очень важный такой объект. Туда ходят постоянно толпы народа и она ходят мимо деревни. И там, соответственно, довольно много людей связаны с обслуживанием этого туризма. То есть это культурный центр, музей. Там визуально человек 100. А в деревне живет 1000. И вот из-за этого глухого постоянного непонимания придумали проект для местных. Что давайте мы вам сделаем программу микрогрант, чтобы вы что-нибудь делали. А, что вы будете делать, нам без разницы, вы придумайте сами. Деньги мы будем давать, точнее не мы, а мы для вас специально их найдем, то есть это не наши деньги, не думайте, что мы вас как-то обеспечиваем. Понятно, что из 10 случаев такая попытка сразу ни к чему не приведет, но где-то приведет. И пара примеров, которые я видел, они работали. Когда у местных появлялось какая-то активность, которой они занимаются сами и которая поддерживается, имеет ресурсную поддержку и которая имеет такое умеренное подкрепление, что туристов к ним приведут тоже, если они захотят. И, в общем, как-то все сглаживается.
Но здесь технология простая. Что на этой линии напряжения находится какой-то союзник. И ряд мест, я упоминал ту же «Пермь Великую» – это как раз ситуация, когда изнутри местного сообщества стремления навстречу нет. Это происходит довольно часто. Мне не кажется, что здесь есть какой-то прям рецепт успеха. То есть, если бы все это решалось с помощью технологии, она бы давно была бы изобретена, и все бы двигалось. Наверное, у местных есть определенные свои причины, почему они проекты развития не всегда принимают. И в ряде случаев они от этого отклоняются.
Но одно правило есть. Может быть, на этом попробую закончить. Первый момент. Есть универсальная буферная аудитория – это аудитория детей. То есть, какие бы не были противоречия между людьми, как бы они не страдали от того, каким укладом живут, или, наоборот, как бы они не превозносили, а большинство хочет, чтобы дети жили в современном новом мире, были к нему полностью подготовленными и были не хуже других. Значит, это задает возможности для развития в этих местах и для того, чтобы эти люди уважали другие группы, с ними находили общий язык и объединялись даже в какие-то определенные коллаборации. И второй момент, по поводу экономики. Есть у городов разные специализации. И в процессе многие из них естественным образом приходят к этой специализации – город для определенного вида занятий, для жизни определенных поколений и так далее. И вторая аудитория, которой все занимаются после детей – это старшее поколение. Везде, где-то что-то обязательно есть. Что есть в малом месте? Есть совет ветеранов, как правило, железно он есть. То есть какое-то объединение людей старшего возраста, которые что-то делают для себя – это просто базовая человеческая вещь, что им нужен какой-то досуг, и они этот досуг сами придумывают. На этой почве, соответственно, тоже всегда идет взаимодействие, и может идти определенная линия развития. Потому что уже многие из этих городов показали, что они сами по себе для старшего поколения очень комфортные. Но при этом почему-то находятся в контрадикторном, противоречивом векторе с политикой по созданию инфраструктуры. Есть город, в котором много пожилого населения, ему там удобно жить, им нравится, а больницу у них закрывают. И на месте государства, наверное, стоит присмотреться к этим новым функциям городов и подумать о том, что создание инфраструктуры, ее развитие, оно совершенно не обязательно должно идти под одну гребенку. Что специализация города может иметь значение.



