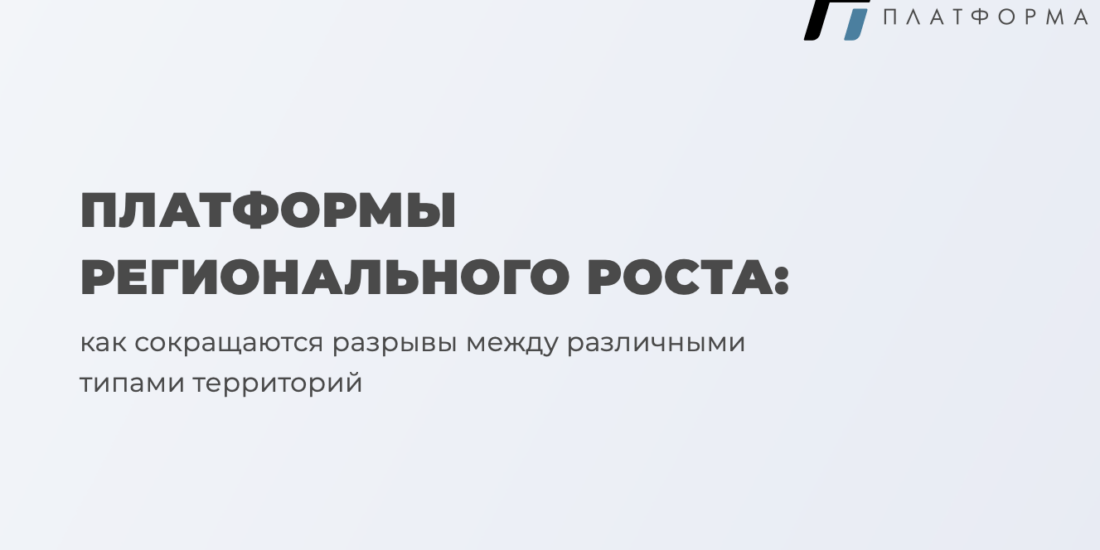Александр Белоусов: «Точка невозврата в городском конфликте – игнорирование позиции протестующих»
Городские конфликты (как правило, связанные с застройкой, местной экологией, малым бизнесом и так далее) – единственная легитимная форма общественного конфликта в России. Федеральная власть воспринимает их в целом нейтрально: видит и риски «раскачки лодки», и форму контроля за региональными властями, поэтому настроена на уступки и поиск компромисса. В таких конфликтах не выдвигаются радикальные политические лозунги, более того, в ряде случаев протестующие обращаются к федеральному центру за поддержкой против «своеволия местных властей», реализуя модель доброго царя и злых наместников. В некоторых случаях такие ситуации приводят к серьезной перезагрузке отношений региональной власти с обществом, как это произошло в Екатеринбурге: конфликт приобретает продуктивные черты, становится, по экспертному определению, «учредительным».
Механику, внутренние механизмы таких конфликтов мы разбираем с политологом, заведующим Лабораторией социально-политических коммуникаций ИФП УрО РАН Александром Белоусовым, чья команда провела исследование по гранту РНФ «Городские конфликты и стратегии поддержания общественного согласия: сравнительный анализ». Беседовал руководитель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов.
– Александр, расскажите про ваше исследование о городских конфликтах.
– Только что мы закончили очередной его цикл. Проводили его в нескольких городах России, где-то порядка 20 экспертных интервью в каждом городе. Это были Иркутск, Новосибирск, Улан-Удэ и, неожиданно, Калуга. Почему она возникла, я объясню чуть позже. Пятый город, который мы тоже изучаем, поскольку там находимся – это Екатеринбург. Мы разработали собственные методики и старались проводить интервью преимущественно с организаторами протестных акций и с представителями власти.
– Насколько охотно власть шла на разговоры о конфликтах? Для нее эта тема не слишком токсичная?
– По-разному. Где-то охотно, где-то неохотно. Где неохотно, приходилось какое-то минимальное давление оказывать. Ведь если власть не будет принимать участия в этих исследованиях, в них будет представлена только точка зрения протестующих – что власть ничего не делает, поэтому они протестовали. И чем дальше мы работали, тем больше власть была заинтересована, чтобы мы эти исследования проводили. Потому что они в этом, я совершенно четко заявляю, ничего не понимают. Для них любой конфликт, который чуть-чуть выходит за рамки ничего не значащего события, превращается в головную боль.
– Он превращается в головную боль, потому что работает система «Инцидент», потому что все конфликты, даже небольшие, попадают в мониторинг администрации президента. Потому что сразу звонят. Эта система в России скорее играет на руку инициаторам конфликта, поскольку для них попадание в федеральную информационную систему гарантированно.
– Я аккуратно по поводу этой системы выскажусь. Может быть, сама система инцидент-менеджмента для своих целей, для того чтобы око Москвы видело каждую маленькую болячку, которая может превратиться в большую проблему – это адекватный инструмент. Но если говорить в целом, эта электронная цифровая система оценки рисков в регионах, в территориях, в городах заменила собой любую другую оценку рисков. То есть любой риск сейчас рассматривается с точки зрения «это дало выхлоп или нет».
– Медиакратия.
– Интернетократия, цифрократия. И они игнорируют то, что происходит в поле, на земле. Для них большинство городских конфликтов – это какие-то мелкие события. Они происходят постоянно. Но иногда они превращаются в нечто наподобие «сквера».
– Екатеринбуржского?
– Да.
Что такое учредительный конфликт
– Как правило, конфликт окружен негативной коннотацией, конфликты – это плохо, надо избегать конфликтов. Но, может быть, на городском уровне, по крайней мере, на локальных уровнях конфликты выступают определенными драйверами развития на территории?
– Чаще всего конфликты нельзя оценивать, как какой-то позитивный способ развития. В Новосибирске есть такой исследователь, Ирина Скалабан. У нее достаточно уникальная методика, она проводит исследования только в Новосибирске — насчитали более 300 городских конфликтов. Мы с ней беседовали, она сказала, что в 95 процентов случаев эти конфликты развиваются не по принципу win-win, а win-lose. Есть выигравший, есть проигравший. Если 95 процентов так развивается, это, наверное, не самый лучший способ развития. Это первое.
Второе. Часто блокируются реально какие-то важные социальные объекты. В том же Иркутске, где не могут построить нормальный туберкулезный диспансер семь лет. Если посчитать, то цена этого конфликта – уже потерянные людские жизни. Разве это хорошо? Нет, ничего хорошего в этом нет.
Но позитивные моменты конфликтов можно видеть на примере Екатеринбурга и Новосибирска, где были учредительные конфликты. Учредительные конфликты – это большие конфликты, в рамках которых чаще всего власть проигрывает, протестующие одерживают победу, и после этого переучреждаются взаимоотношения между властью и обществом. И там отношения начинают строиться совершенно по-другому.
Можно сказать, что эти конфликты оказывают положительное влияние. На примере того, как в Екатеринбурге кейс Сквера повлиял на действия власти.
– Что случилось с властью? И с какой властью – региональной или муниципальной?
– С муниципальной. Региональная власть от этих конфликтов и ситуаций старательно отходит. Это отдельная проблема того, что происходит в рамках вертикали власти. Об этом тоже нужно разговаривать.
Что произошло? Там поменялся мэр города. То есть в 2019 году весной был один мэр, а ближе к зиме другой – Алексей Орлов. Одна из проблем, которую ему приходилось решать – что делать с этим всем протестным наследием. И они выработали совершенно другую модель взаимодействия с общественностью, с критиками, с протестующими. Развернулись к ним лицом, пошли на достаточно тесные взаимодействия. И напряжение значительно снизилось.
– За счет чего снизилось? Встреча с гражданами, повышенная эмпатия, новая искренность?
– Они занялись снижением конфликтности. Что они для этого сделали? Общественная палата города Екатеринбурга, в которой я имел честь состоять, совершенно своей функции не выполняла. Поэтому они создали параллельный орган, настоящую общественную палату. Назвали его «Совет неравнодушных». К этому названию приклеились слова «граждан», или «горожан» и так далее.
И на этой площадке мэр собирает регулярно, где-то раз в полгода, реальных лидеров общественного мнения. Критически настроенных. Так скажем, умеренно критически. Он их собирает, он с ними беседует, он в их доступе, они могут сказать ему все, что угодно. Ставятся какие-то актуальные темы, они беседуют, и в целом публика понимает, что диалог идет, можно прийти и задать вопросы. В итоге протесты снижаются.
– А модератор этого диалога кто? Кто-то же должен занимать равновесную позицию – вот есть мэр, есть граждане. Или администрация выполняет роль модерирования?
– Она выполняет роль этого модерирования. Видимо, выполняет так, что участвующих это устраивает. И нареканий к ведению не было. Не было хлопанья дверями. Есть какие-то сожаления, что «меня туда не взяли», такое я слышал. Но такого, чтобы люди были недовольны, нет.
– Запомним «учредительный конфликт», в моем лексиконе новое словосочетание, спасибо. И Екатеринбург – тот случай, где мы получили кейс такого учредительного конфликта.
– Совершенно верно.
– Здесь многое в очень сильной степени завязано на характере, на менталитете. Слово конкретного чиновника, мэра. Это же не системная история. Поменяется мэр, у него будет другой взгляд.
– Да, она не закрепляется, она ситуативна. Более того, в этих учредительных конфликтах, и это тоже выявили наши исследования, есть определенный срок действия.
– Пока энергия этого конфликта и социальная память сохраняются?
– Да. В Екатеринбурге сейчас, спустя пять лет, сохраняются. Хотя уже стали пореже собираться эти Советы неравнодушных граждан, но инерция есть. А есть кейсы, когда сначала отношение к конфликту поменялось, а потом вернулось все обратно. Например, Иркутск. Сейчас я могу в датах ошибаться – в 2006-м примерно году был громкий кейс, учредительный конфликт вокруг Байкала, когда Путин отодвинул на 200 или 300 километров нефтяную трубу, которую хотели рядом провести. Все там поменялось, власть развернулась лицом к людям. Но когда мы туда приехали в 2023 году, разговаривали с чиновниками – с городскими, с региональными, отношение к протестующим уже было совершенно другое. Стигматизирующее. Стигматизация протестующих – это когда к ним относятся как к каким-то ненормальным, неправильным, принижают. Тоже отдельная тема.
– Городские сумасшедшие?
– Да. Или, например, их могут назвать градостроительными террористами.
– Экологическими террористами…
– Экологическими, и так далее. Это все – первый шаг к непониманию.
– Чиновники тоже поменялись?
– Да. Как раз за этот срок, примерно за 10-15 лет, вымывается и весь слой чиновников, и весь слой активистов.
Типология конфликтов
– Давайте поговорим о типологии конфликтов. Достаточно соблазнительно типологизировать конфликты по мотивам участников. Допустим, экологические конфликты, градостроительные конфликты, культурологические конфликты, культурные в каких-то символических местах. И так далее. Но в этой типологизации есть изъян. Он связан с тем, что очень много тематик смешиваются и проецируются друг на друга. Вот, допустим, сквер в Екатеринбурге – это был экологический конфликт или социальный конфликт? Или когда раздраженная общественность через какой-то повод просто выплескивает всю накопленную негативную энергию. То есть неважно даже, это конфликт вокруг московских отходов, как было под Архангельском, или вокруг сквера в Екатеринбурге. Но есть какой-то раздражитель, и он канонизируется в этой истории. В этой связи вопрос: настолько реальные мотивы протестующих совпадают с декларативными? Насколько вообще можно провести такую отраслевую типологизацию конфликтов?
– Это очень хороший вопрос, и у меня есть свое мнение по поводу мотивов и типологизации. Поскольку мы работали в рамках строгой научной системы, для нас городские конфликты четко обозначены пространством города. Например, тот же Шиес или еще что-то, что происходит за пределами города – это, строго говоря, не наша тема.
– …но в пространстве города возможно тоже очень много направлений.
– Мне задавал такой же вопрос — по поводу экологических конфликтов — один из исследователей на конференции. Мы обнаружили, что 90 или 95 процентов – это конфликты, связанные со стройкой: что-то хотят построить, а люди этим недовольны. Для чистоты мы даже иногда используем термин «городские пространственные конфликты». А экологические конфликты, конфликты за культурное наследие –вынесли за скобки.
Что касается экологического конфликта, экологической тематики, мы пришли к следующему выводу. Чаще всего в пространственных конфликтах начинает использоваться экологическая риторика. В особенности в конфликтах не в центре города, а где-то на окраинах. Почему?
Большинство конфликтов на окраинах начинаются и разворачиваются по типу «not in my backyard», «только не в моем дворе». То есть «вы стройте это где-нибудь, только не у нас. Стройте там, сям, не у нас». Это главный мотив для людей, чтобы собраться и начать отстаивать свои дворы. Не за светлое будущее всего города они борются, а чтобы «эту штуку» не воткнули рядом с нами. Тубдиспансер, храм, мегаколонию, как это в Улан-Удэ и в Калуге происходит.
Что происходит дальше? Если они начнут говорить: «Вы стройте это где-нибудь, только не у нас», они все городское сообщество не заинтересуют. Это мотив только для них, но не для всех горожан. Поэтому для того, чтобы склонить на свою сторону общественное мнение, они начинают выдумывать экологические мотивы и их вбрасывать. Потому что экологические мотивы универсальны для всех горожан.
Типичный пример: кейс строительства мегаколонии в Улан-Удэ. Там на окраине города хотят ее построить, людям это не нравится, хотя строят на расстоянии 3 километров от них. Что они сказали? С чем они пришли к горожанам? С тем, что будет вырубаться какая-то часть пригородных лесов. И для горожан действительно это может быть актуально и релевантно.
– Вы считаете, что они это придумывают? То есть сидит там такой политтехнолог внутри протестующих и говорит: «А вот мы сейчас предложим им вот эту версию, экологическую». Активисты такие манипуляторы, или происходит подсознательная подмена мотивов?
– Знаете, если в целом говорить про протестующих, я не питаю иллюзий. Это, с одной стороны, искренние люди, но они не чуждаются и манипуляцией. Если нужно, они могут начать спокойно манипулировать в целях защиты своих интересов. И это понятно. У них появляются менторы, у них появляется круг советников, которые им помогают. Это практически всегда происходит.
– Откуда появляются?
– Ну вот живут люди в микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ, рядом с ними начинают строить что-то. Они начинают собираться, как-то организовываться.
– Как собираться?
– Появляются активисты, они начинают общаться, они начинают собираться очно, они собирают всякие группы в чатах. И на каком-то этапе у них появляются менторы. У активистов ведь есть очевидные дефициты. Например, юридический: они понимают, что нужно начать бороться, и первое, что нужно сделать, какие-то бумаги куда-то написать. Но для этого нужна компетенция. Потихоньку подключаются специалисты.
Вот эти специалисты-менторы могут оказывать влияние на многие параметры, и в том числе на выбор стратегии. Откуда берется здесь экологическая тематика, установить достоверно сложно… Сами они ее выбрали или кто-то им посоветовал, сказать невозможно. Скорее всего, и то, и другое. В случае Улан-Удэ это был один из аргументов, который был у них на столе. Но не важный. А в какой-то момент он стал самым важным. Поэтому на митинги, которые устраивали КПРФ, они пошли именно с этим главным аргументом, что нужно защитить леса городские, которые здесь будут вырубаться.
Что влияет на развитие конфликта
– Вы обещали рассказать про Калугу. В Калугу-то как вас занесло, что там приключилось?
– Случайно. Когда мы поехали в Улан-Удэ, узнали, что там текущий кейс этого лета – противодействие против объектов ФСИН, мегаколония так называемая. Обнаружили, что аналогичный кейс есть в Калуге. И мы решили сравнить, как развиваются протесты и там, и там, и от чего зависит их успех. Так мы оказались в Калуге.
– И как? Разная динамика или генезис конфликта в Калуге и Улан-Удэ? Или они идут примерно по одной модели?
– Они идут все-таки немного по-разному, преимущественно из-за действий властей. Основная разница между этими конфликтами состоит в том, что в Улан-Удэ к конфликту подключились коммунисты, они там находятся с региональными властями в серьезном противостоянии, у них там не на жизнь, а насмерть.
В Калуге же взаимодействие коммунистов с региональными властями происходит по другому сценарию. Коммунисты хотели зайти в этот конфликт, но региональным властям удалось их убедить не участвовать. В итоге, у этого конфликта сейчас совершенно другая динамика. Это первое. Второе – менталитет. Все-таки менталитет калужан и улан-удинцев разный. Надо понимать, что это Бурятия, и там люди…
– Пожестче и агрессивнее?
– Чтобы проиллюстрировать: я приезжаю в их аэропорт. И первое, что я вижу в аэропорте – плакат для участников СВО, которые прилетели: «С возвращением, воин». То есть тут сразу же – не солдат, не еще кто-то, а воин. Это архетип. Менталитет калужан, он все-таки другой.
Третья особенность: в Улан-Удэ густонаселенные микрорайоны, которые соседствуют со стройкой. А в Калуге три поселка. Совокупная численность этих людей не 10 тысяч, а 500 человек.
– А вот вступление в игру партий… как бы так выразиться, оппозиционными их не назовешь… в общем, партий, которые не являются партией «Единая Россия», оно как-то добавляет конфликтный потенциал, усиливает его?
– По моему глубокому убеждению, это один из самых сильнодействующих факторов усугубления конфликта. Такую «партизацию» городских конфликтов мы наблюдали в четырех из пяти регионов.
В Иркутске и Новосибирске партия, которая активно включалась в такие конфликты, делала ее частью своей политической стратегии – это была КПРФ. В Новосибирске и Екатеринбурге это были, скажем так, партии и партийные структуры либерального толка. Там участвовало много яблочников и представителей спектра, которые близки к запрещенному в России Навальному (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов – прим. ред.).
– Но большую повестку они же не поднимают, все на уровне лозунгов? Это просто способ сказать «куда смотрит Кремль»?
– Там важно, что придает динамику этим конфликтам. Один из ключевых дефицитов у протестующих – это дефицит длинной воли. То есть, когда у тебя что-то хотят построить, и ты хочешь этому противостоять, нужно быть готовым заниматься этим. Примерно от двух лет, минимум два года. Можно и десять лет этим заниматься. «Партийцы» добавляют длинную волю.
Я думаю, что партийные структуры будут приходить в городские конфликты и больше с ними работать. К этому тоже нужно всем участникам быть готовыми.
Роль вертикали власти в конфликте
– А пытались вы моделировать конфликт? Если ввести такое понятие – «точка невозврата»? Что-то можно предпринять на ранней стадии, политтехнологически в том числе, чтобы конфликт не перерос в большое событие?
– Точка невозврата – это, на мой взгляд, игнорирование позиции протестующих и демонстративное неуважение к их точке зрения. Точкой невозврата может стать, например, организованное властями общественное слушание, куда нагонят «нужных людей», и реальные люди будут этим возмущены. Поймут, что никто с ними разговаривать не хочет. После этого они будут биться до конца. Чтобы эту точку невозврата не проходить, надо быть готовым где-то искать компромисс. Нужно идти на какие-то уступки для протестующих. Быть готовым разговаривать. Часто переговоры как идут? Вот мы выбрали место, дальше кто там, политический блок мэрии, идите договоритесь с протестующим. Место будет это.
– То есть ресурсные игроки привыкли к доминированию. Условно говоря, предприниматель хочет что-то построить, но он-то привык, что у него в компании железная дисциплина. Он сказал, все сделали. Он переносит модель управления своим активом на город. А поскольку город – среда более упругая, более свободная, точно не поддаётся такому жёсткому доминированию, возникает конфликт.
– Всё верно, да. Мы же тоже привыкли, что у нас такая сейчас политическая ситуация, что конфликты вообще-то не приняты, политических конфликтов нет. А когда касается городских дел и какого-то строительства, оказывается, что здесь ситуация совсем не такая. На самом деле сейчас городские конфликты – это единственная площадка, где можно не соглашаться с властью и отстаивать свои права всеми доступными способами.
– Даже с определенной вероятностью федеральный центр выступит здесь арбитром и не обязательно примет сторону региональной власти.
– В том-то и дело.
– А может, и арбитром не выступит. Скажет: «Решите вопрос. Нам шум не нужен. Тем более время сейчас непростое. Решите позитивно».
– Что касается темы вертикали власти. Что происходит у нас часто? Нужно построить какой-то федеральный объект. Например, тот же объект ФСИН, стоимость достаточно высокая, 30 миллиардов рублей. Для Бурятии это ощутимый бюджет. Региональные власти пролоббировали, чтобы этот объект строился. Дальше они получают этот объект и просто спускают его на уровень города. «Это же ваша земля, люди ваши, вот и решайте».
А у городских властей нет компетенции, как вести себя в этой ситуации. Причем это наблюдается практически везде, где мы исследовали. Никто не знает, что такое городские конфликты и с чем их едят. Более-менее муниципальная власть натаскана на проведение выборных кампаний, потому что им это нужно делать с определенной регулярностью – городская дума, Заксобрания, губернатор, президент, Госдума… А городские конфликты либо мелкие и тлеют, либо крупные и случаются раз в 10 лет. Никто не знает, что с этим делать. А объект федеральный, ответственность высокая. Им это спустили, надо что-то делать.
Региональные власти, как правило, «отскакивают» от этого, они не хотят брать на себя эти риски. Хотя именно у региональных властей больше компетенций по работе с рисками, по регулированию разного рода ситуаций. Их регулярно обучали, обучают и будут обучать. До городских властей федералы только сейчас дотянулись с этим обучением. И городские власти начинают изобретать велосипеды. Чаще всего эти велосипеды кривые и неправильные. Они записывают протестующих в городские градостроительные террористы: «Сейчас все проведем, все сделаем, а если что, всем тюрьма».
Причем игроки, в чьих интересах эти объекты строятся, тоже отходят. ФСИН, например, нигде не принимает участия ни в чем. Тут тоже полным-полно дефицитов. Они не смогли сформулировать для людей, для горожан привлекательную идею того, что они делают.
– Привлекательная идея строительства зоны – это, наверное, сложная история.
– Я уверен, что в любом случае можно поработать над позиционированием тюрьмы, объяснением, что там будет… И работа со страхами и рисками. Почему люди против тюрьмы? Там огромный слой мифологии.
Как сказал один из представителей властей, с которыми мы это обсуждали, люди свое представление о тюрьмах и колониях берут из фильмов и сериалов. То есть это наркотики каждый день, какие-то дроны, бомжи, убийства, насилие. И люди этого боятся. В случае с ФСИН они тоже не стали включаться, самоустранились, потому что у них нет такого навыка. Они не знают, что можно и нужно делать. Но есть кейсы, когда интересанты строительства объектов включались, и именно они урегулировали конфликты.
– Например?
– Например, в 2021 году рядом с Екатеринбургом, рядом с озером Шарташ, в экологической зоне был запущен торгово-логистический центр, который строил РЖД. Там назревал достаточно серьезный конфликт. Что с ним делать, никто не знал. Люди были против. Люди жили в поселке рядом с озером, а тут им РЖД какую-то станцию ставит непонятную. Приехали специалисты от РЖД, переговорщики, они с протестными лидерами вступили в контакт, разъяснили, куда-то их, возможно, свозили, показали аналогичные вещи.
Плюс дали «взятку инфраструктурой». Договорились о том, что «у вас будет логистический центр, а мы вам сделаем детские площадки, дорогу». В итоге это было реализовано. Это хороший кейс, это очень важная вещь, которая говорит о том, что включение инициатора строительства в процесс как правило позитивно влияет, и что есть корпоративные стратегии урегулирования и налаживания взаимоотношений с протестующими, которые позволяют этот протест сгладить.
Второй такой кейс был в Иркутской области, уже после «учредительного конфликта» по поводу Байкала. Через год буквально «Росатом» в Ангарске собрался делать хранилище по хранению ядерных отходов. Это, конечно, вызывало резонанс и ажиотаж, однако они вступили в коммуникацию с людьми, куда-то их возили, объясняли, работали, и все в итоге у них получилось.
Будущее конфликтологии в России
– В западной общественной мысли есть такое понятие public affairs, как раз учат общественным компромиссам. Есть ли в России такая школа конфликтологии? Есть ли у нас профессиональные конфликтологи?
– Профессиональные конфликтологи есть. В Москве достаточно много таких специалистов, потому что постоянно что-то приходится строить – например, дороги, которые проходят рядом с окнами людей, и с людьми приходится работать.
Я думаю, что в Москве, в Санкт-Петербурге такой штат конфликтологов есть. В Новосибирске, я уже упоминал, есть исследователь Ирина Скалабан, она доктор психологических наук, и она тоже конфликтолог, тоже умеет и работает с такими ситуациями. В целом же, если взять регионы России, и особенно восточную часть, которую мы исследовали, там такого нет. И, конечно, таких людей и такие навыки нужно развивать.
– Да, но для начала должен появиться заказчик. Заказчик должен поверить в то, что это не размещение нескольких материалов в городской газете, которую уже никто не читает. А реальная технология работы с разными группами. Поскольку у нас почти нет квалифицированного заказчика, то у нас, видно, нет направления. Хотя, в принципе, многие команды, которые когда-то появились на выборах, могли бы переквалифицироваться и работать с локальными конфликтами. Наверное, пока рынок не дозрел.
– Да, но он будет дозревать сейчас. Надеемся, что в 2025 году закончится СВО и пойдет потихонечку разморозка всего. Конфликты тоже начнут размораживаться, и с ними придется что-то делать. Если мы говорим о заказчике, удивительно, каким образом Министерство строительства умудряется от этой темы дистанцироваться. Строители способны внести какие-то корректировки в проект, они имеют больше шансов договориться с протестующими, чем специалисты политических блоков.
Я видел представителей строительного сектора в городских администрациях, в других местах. Они реально очень хорошо работают с людьми. Любой строитель, который просто строит и которому нужно договориться, общается с людьми лучше, чем представитель политического блока, который привык все время кем-то манипулировать. Я думаю, что у них потенциал переговорного успеха достаточно большой. Я бы ассоциациям строителей настоятельно рекомендовал на эту тему обратить внимание и не дистанцироваться от городских конфликтов. Потому что, в конце концов, это ваши стройки, ваши миллиарды. А то строят строители за миллиарды рублей, а разруливать все должны городские политические менеджеры, у которых там бюджет 3 копейки. Здесь явное несоответствие и несправедливость. Рано или поздно они будут вынуждены в эти процессы включаться. И лучше эти процессы возглавить, чем ждать, когда жизнь тебя туда макнет.