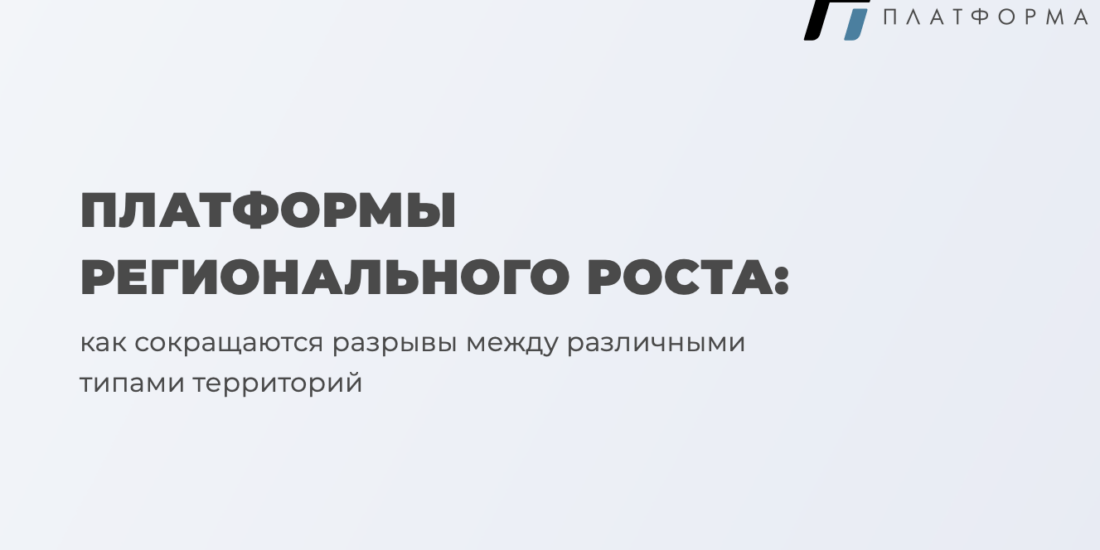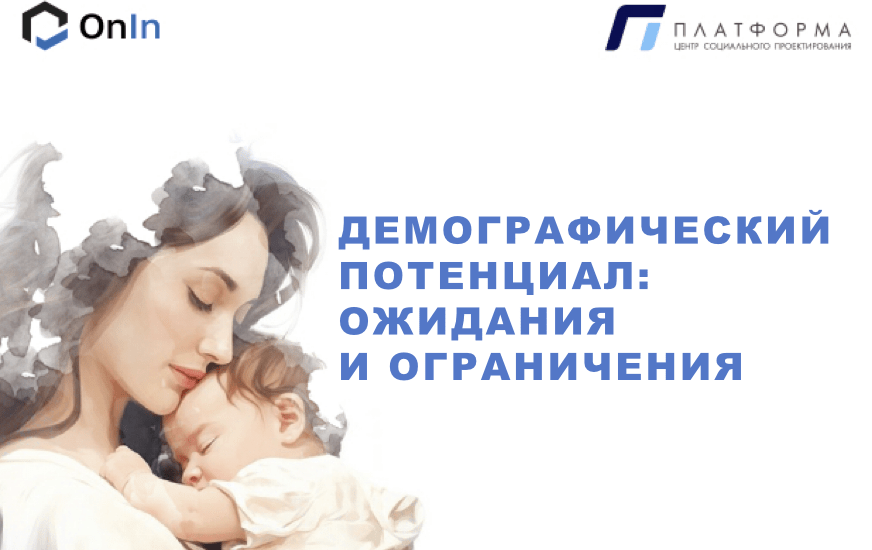«Нужно поддерживать небольшие компании, которые ищут месторождения нефти»
«Нужно поддерживать открытие месторождений и поиск нефти, который ведут небольшие компании: они будут получать лицензии на участки и продавать их крупным компаниям для последующей разведки и добычи нефти», — считает заслуженный геолог Югры, сопредседатель экспертной группы по классификации ресурсов Европейской экономической комиссии ООНАлександр Шпильман. В совместном проекте «Энергии+» и Центра социального проектирования «Платформа» по поддержке экспертной дискуссии относительно перспектив нефтегазовой отрасли представляем его авторскую колонку.
Кратко о главном
Нефтяная отрасль в России подтвердила свою устойчивость в период экстремальных вызовов. В мировом масштабе происходит обычный передел рынка, но нефть как продавали и покупали, так и продолжают продавать и покупать.
Существенного роста нефтедобычи в России не предполагалось и ранее. Критичной может стать ситуация, когда добыча нефти и газа будет меньше внутреннего потребления; этот сценарий крайне маловероятен в ближайшее время, но его надо держать в уме. Этот уровень определяет понятие энергетической безопасности России.
Государственное стимулирование необходимо для поиска новых месторождений нефти. Это проекты с высокой степенью финансового риска. Небольшие компании обычно занимаются поиском новых месторождений. Нужно разрешить продавать лицензии с открытыми месторождениями крупным нефтегазовым компаниям, но необходимо легализовать этот процесс на государственном уровне.
Малым компаниям, которые занимаются поиском участков, можно было бы предоставить льготы до момента продажи участка. Также необходимы налоговые льготы для разработки небольших месторождений.
В идеале могли бы сложиться симбиоз крупных и малых компаний и найтись золотая середина во взаимодействии компаний с государством — когда и государство получает доходы в бюджет, и компании получают прибыль.
Ситуация по нефти стабильная, но роста добычи не предвиделось и ранее
Нефтяная отрасль вполне обеспечена ресурсами на ближайшие 20–30 лет. Добыча нефти в России превышает 500 миллионов тонн в год. Компании работают успешно и прибыльно. Это можно увидеть в публикациях годовых финансовых отчетов крупных публичных нефтяных компаний. У нефтяной отрасли России не видно стратегических провалов или неразрешимых проблем.
Обеспеченность газовой отрасли запасами природного газа еще выше, чем нефтяной отрасли — нефтью. При этом с продажей газа за границу возникло много политических проблем, и рентабельность «Газпрома» значительно снизилась.
В нефтяной и газовой отраслях есть проблемы, связанные с политикой: введение санкций, отказ покупать сырье, переориентация экспорта на Восток. Эти проблемы вызвали необходимость определенных решений — например, перенастройки технологий и направлений транспортировки нефти и газа в последние годы.
Нефтяная отрасль России — это часть мировой системы по добыче и переработке нефти. Когда говорят: «Мы не купим у России 100 миллионов тонн нефти», — значит, Россия продаст эти 100 миллионов тонн в другом месте, другим странам. В этой сфере в мире не происходит ничего. Нефть продается и покупается, как и раньше.
Конечно, в последние годы много говорят о зеленой энергетике. На мой взгляд, эти процессы будут идти параллельно, будут сокращаться добыча углеводородного сырья и идти наращивание возобновляемых источников энергии. В какие-то периоды будет наступать дисбаланс системы, но в целом этот процесс будет сбалансирован. Дисбаланс связан и с существенным экономическим неравенством. Богатые страны могут спонсировать возобновляемую энергетику, находить средства на критическое сырье для нее, покупать дорогие электромобили. Они быстро перейдут на зеленую энергетику. Для бедных стран это невозможно. Им нужно в принципе решить вопрос доступной энергии — одну из ключевых задач ООН до 2030 года. Россия, на мой взгляд, должна ориентироваться на углеводородную энергетику до 2050 года, обеспечить свою энергетическую безопасность и при этом развивать новые технологии возобновляемой энергетики.
Глобально, во всемирном масштабе, в нефтяной отрасли нет никаких существенных изменений. Происходит обычный передел рынка, который находится в постоянной конкуренции. Есть механизмы, которые позволяют эту конкуренцию уменьшить. Это всем известные соглашения стран ОПЕК, договаривающиеся о количестве продаваемой нефти. Однако сохранение баланса не означает, что сохраняется потенциал роста.
Анализ ресурсной базы по нефтедобыче показывал и до всех политических кризисных событий, что роста добычи нефти в России не будет. Нет понимания, как обеспечить ресурсами рост добычи на какие-то значимые величины — на 20–30%. При этом в последних энергетических стратегиях России всегда существовал прогноз снижения добычи нефти. Особенно если смотреть дальние перспективы — 40–50 лет: снижение добычи нефти прогнозировалось на основе анализа состояния текущей ресурсной базы.
Любой прогноз добычи нефти, который говорит, что запасы и ресурсы быстро иссякнут, может оказаться неоправданно пессимистичным. Откроют новые источники, и запасов хватит еще на длительный период. В последние десятилетия были открыты сланцевые нефть и газ и нефтяные пески Атабаски, разработаны технологии их добычи — и это значительно прирастило запасы и добычу нефти в мире. Этим и сложны дальние прогнозы добычи нефти. Например, когда говорят: «В 2100 году…», — то я отвечаю: «Нефть, скорее всего, будет добываться и использоваться, но вот сколько, спрогнозировать очень сложно».
Ситуация с ресурсами газа в России значительно лучше, чем с нефтью. Если по нефти в последние 20 лет прогнозировали, что будет снижение добычи, а дальние прогнозы (50–100 лет) строить сложно, то по газу мы обеспечены лет на 100 видимыми запасами и ресурсами. Если предположить еще дополнительные ресурсы, то обеспеченность будет еще больше. Например, все новые районы на севере Западной Сибири, где мы начинаем добычу, — это, в основном, газоносные районы, и таких в России несколько.
Вопросы энергетической безопасности: нефть и газ
Катастрофой для России станет ситуация, если мы будем добывать нефти меньше внутреннего потребления. Это уже будет вопрос энергетической безопасности страны. Нам — устойчивому экспортеру нефти — такая ситуация кажется нереальной, но нужно держать в фокусе и самый негативный сценарий.
Сейчас мы потребляем, по разным оценкам, 30–35% от добываемого количества нефти. Все остальное мы продаем за границу как сырую нефть или как нефтепродукты. Это обеспечивает прибыль бюджета, прибыль компаний, но не является единственным необходимым условием для существования или развития России.
По нефти для внутреннего потребления у нас очень большой запас: 200–250 миллионов тонн добычи в год хватит, чтобы сохранить энергетическую безопасность России.
С газом ситуация другая. Мы продавали до кризиса порядка 200–250 миллиардов кубов, добывали около 700 миллиардов кубических метров. Примерно 500 миллиардов кубометров — внутреннее потребление. Доля внутреннего потребления газа в России значительно выше, чем нефти.
В случае с газом важным является вопрос, как меняется внутреннее потребление. Потому что, на мой взгляд, это очень коррелируемые процессы — внутреннее потребление газа и развитие экономики: чем больше внутреннее потребление, тем лучше развивается экономика страны. Это важнее, чем данные о том, смогли ли мы продать больше на 100 миллиардов кубов или меньше. Хотя это валютные поступления, это важно для бюджета России, для «Газпрома», для экономики, но это не влияет на энергетическую безопасность и на развитие экономики внутри страны. К тому же это уровень жизни людей, тепло и свет в их домах, освещение улиц, электротранспорт. По данным ООН, сотни миллионов людей в мире не имеют доступа к электричеству, а природный газ — основное сырье для его производства.
Где вести поиск: Западная Сибирь и/или новые провинции
Каждый раз приходится принимать решения, где вести поиск месторождений нефти. Каждый район, каждая провинция требует своего подхода. Есть регионы, разрабатываемые десятки лет. Например, Волго-Уральская нефтегазоносная провинция: там необходимо вводить в эксплуатацию все мелкие месторождения, потому что уже создана инфраструктура.
Другой пример — месторождения в Широтном Приобье в Западной Сибири, вся инфраструктура создана: дороги, ЛЭП, трубопроводы. Когда говорят, что «это мелкое нерентабельное месторождение», не стоит рассматривать его как одно месторождение — рассматривайте как часть территории, где создана вся инфраструктура и где его, может быть, на пределе рентабельности, но лучше вести, потому что иначе эту нефть потеряете, не сможете рентабельно добыть. Если вы уйдете оттуда, то разрушатся дороги, природа возьмет свое, и вы останетесь без этой нефти.
В дальневосточных регионах и в северных морях (Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) стоят совсем другие задачи. Мы там не знаем геологию — только догадываемся о ней, и то кусочками. Нужно в принципе определить, есть там нефть и газ или нет. Вопрос увеличения добычи нефти в таких регионах не стоит — для начала надо хоть что-то найти. Это, конечно, большая государственная задача.
Сейчас региональные работы пытаются вести крупные компании. В этом нет ничего плохого, если они готовы вкладывать средства в региональные работы — пусть и рискованные, но очень нужные. Хорошо, что вкладывают. Однако усилий бизнеса недостаточно без участия государства. Задача — открыть не месторождение, а новые провинции, новые районы. Это будущее страны.
Для меня очевидно, что на севере и в Западно-Сибирской провинции будет много открытий (думаю, в основном газ, но, возможно, и нефть). Какое количество? Считать надо. Ресурсы нефти и газа провинций умеют считать специалисты, но в последнее время работа по переоценке ресурсов углеводородов идет как-то вяло. Да и изменения по оценке ресурсов, внесенные в закон о недрах, какие-то странные.
Нефтегазоносные провинции в России находятся в совершенно разных стадиях геологического изучения и выявленности ресурсов. Поэтому для каждой из провинций требуется своя программа геологоразведочных работ с определением источников их финансирования, увязки с программами лицензирования. Конкуренция между провинциями за финансирование недопустима. Это не государственный подход. Где вести поиск? Думаю, что правильно — во всех нефтегазоносных провинциях.
Стимулировать надо не добычу, а поиск
Чтобы открывать новые ресурсные территории, надо стимулировать поиск месторождений. Месторождение становится открытым, когда там пробурили поисковую скважину, получили приток нефти, оконтурили его. Доказать теоретически наличие нефти нельзя — надо добыть реальную нефть из пласта.
Далее на открытых месторождениях осуществляется разведка, которая требуется для уточнения контуров и нефтегазоносности. По одной скважине большое месторождение невозможно поставить на баланс, невозможно создать на него проект разработки. Для решения этих задач на втором этапе бурится несколько разведочных скважин.
Стимулирование добычи в нынешних условиях выглядит двусмысленно. С одной стороны, решениями ОПЕК говорим: «Не надо добывать так много». С другой стороны, говорим: «Как бы простимулировать?» Странно одновременно сокращать и стимулировать. Поэтому сколько добывают — столько и добывают. Зачем ее стимулировать, если мы ее иногда нормативно сокращаем?
Если говорить про разведку, то компании очень хорошо знают, сколько им нужно разведки, потому что им нужно подготовить площади для добычи, чтобы бурить эксплуатационные скважины. Сколько им надо — столько и пробурят разведочных скважин. Разведку и добычу не надо регулировать и стимулировать. Компании сейчас бурят достаточно — ровно столько, сколько им необходимо для подготовки запасов к добыче. Если их простимулировать, они пробурят в два раза больше скважин, чем смогут добыть. Это не имеет смысла.
Другой вопрос целенаправленного льготирования. Например, обнуление налога на добычу полезных ископаемых на сланцевую нефть баженовской свиты. Для добычи баженовской нефти требуются создание новых технологий и внедрение рентабельных методов добычи. Также понятны налоговые преференции при освоении месторождений арктических районов. Это создание новых районов нефтегазодобычи на территориях со сложными климатическими условиями и отсутствием инфраструктуры. У таких налоговых преференций есть государственные цели — их следует добиваться и оценивать результаты.
Льготы для пионеров поиска
Крупные компании в основном не хотят заниматься поиском и брать поисковые участки, где нефть еще не открыта. На такие рискованные участки чаще идут мелкие компании. Это другой бизнес. Эти компании изначально знают, что они не будут добывать нефть. Их главная цель — пойти на этот риск, открыть участки и продать их.
Ничего плохого в этом бизнесе нет, он распространен во всем мире. Чем свободнее будет на рынке поиска нефти, тем выгоднее будет всем. Крупные компании смогут покупать эти лицензии у малых. Малые компании будут рисковать своими деньгами, но, с другой стороны, иметь возможность хорошо заработать, если повезет открыть. Это нормальный бизнес, рискованный, может быть, даже венчурный, требующий новых технологий, но интересный. Главное, что он позволяет развивать новые территории, отрасль, недропользование.
Проблема в том, что в России запрещена продажа участков. Сейчас придумана хитрая схема: продают компании, которые владеют лицензией. Вот такое хитросплетение. В конечном итоге все равно продают участки, но законодательно все это закамуфлировано под продажу компании, бизнеса. Проще было бы, конечно, разрешить продавать лицензию под контролем государства. Тогда бизнес был бы прозрачнее, и все стало бы гораздо понятнее.
Рынок мелких компаний, которые готовы рисковать и заниматься поиском, в России уже сложился. Их основатели — это своего рода инвесторы, обычно не нефтяники, люди, имеющие деньги и желающие их прибыльно вложить. Часто они берут бывших главных геологов из крупных компаний с опытом работы или приглашают экспертов со стороны.
Нам нужно поддерживать пионеров — небольшие компании, которые идут в новые провинции, регионы, ведут там поиски нефти или газа, получают на участки лицензии и дальше продают это все крупным компаниям. Это можно стимулировать. Можно не брать с этих компаний какой-то налог до момента продажи. Ведь пока компания нефть не добывает, она только тратит. Так вот, может быть, только с продажи нефти брать налог или только с продажи лицензии.
У нас очень много месторождений, мелких для нефтяной отрасли: 1–3 миллиона тонн и меньше. Крупные компании считают нерентабельным идти на них. Такие месторождения требуют льгот, независимо от того, какая компания туда пришла. Конечно, требуются расчеты этих льгот, но в принципе в таких провинциях, как Западно-Сибирская, Волго-Уральская, Тимано-Печорская, где разработка идет очень активно, а мелкие месторождения разбросаны вокруг и никто их не берет, можно придумать механизм ввода льгот на разработку мелких месторождений. Установив, конечно, размер и доказательство.
Все эти меры могли бы стимулировать отрасль. Много добычи нефти это не даст, но подберет все остатки, которые сейчас не разрабатываются, а остаются в нераспределенном фонде.
Симбиоз крупных и мелких компаний при поддержке государства
В идеале хорошо бы иметь симбиоз бизнес-моделей, где есть крупная компания (условные «Газпром», «Роснефть»), которые находятся в открытом взаимодействии с массой небольших компаний, занимающихся поиском и первичной разведкой небольших месторождений.
Это как с магазинами: есть гипермаркет, а есть булочная у дома. Не надо идти за буханкой в гипермаркет. Самотлор или Уренгой не будет разрабатывать мелкая компания, но есть такие задачи, которые она смогла бы решать, и у нее хватило бы средств. Крупным компаниям было бы тоже выгодно, если бы им нашли участки, подготовили их и взяли бы на себя риски.
Государству выгодно максимизировать доход бюджета с нефтегазовой отрасли, компаниям выгодно максимизировать свою прибыль. Здесь никогда не будет общего интереса. Надо договариваться. Находить такую золотую середину, когда и государство получило бы свой бюджетный доход, и для компании эта деятельность была бы прибыльной, поскольку ни одна компания убыточно работать не будет. При этом со стороны государства необходимо оценивать и социальный фактор — занятость людей, развитие городов и территорий.
Важно, чтобы налоговые законы не менялись слишком часто, а действовали неизменными долгое время, чтобы любой бизнес мог понимать перспективы. Если часто менять налоги, налоговые системы, налоговые преференции, то теряется возможность прогнозировать. Тогда компании начинают жить сегодняшним днем, а это нехорошо: бизнес должен быть прогнозируемым.