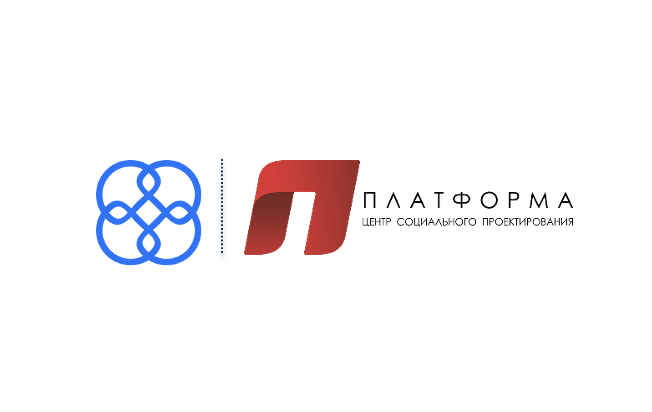Под колесами нелюбви: как Андрей Звягинцев анатомирует общество.
Режиссер преодолевает антропологическую одномерность предыдущих работ и разделяет людей на два базовых типа: тех, кто обращен только на себя, и тех, кто обращен к другим. Это самое принципиальное деление, которое глубже других социальных индикаторов
В фильме «Нелюбовь» Звягинцев обесценивает повседневность не тем, что вырезает из нее самые темные куски для дальнейшего показа их в Каннах. И не тем, что умышленно искривляет реальность из русофобских, как укоряли его некоторые, соображений. Он только меняет освещение и мелодию жизни. Все вещи остаются на своих местах, они аутентичны своей природе. Но — и здесь уместно затертое выражение — «мы видим их в другом свете».
И правда, вот квартира как она и есть, вот мужчина и женщина в быту, их драматически разборки, неряшливо разбросанные вещи и судьбы, подъезд, парк, корпоративная столовая с гуляшом и компотом, рыхлые коллеги, всегда открытый инстаграм в телефоне… Это же наш мир, мы его видим таким на каждом шагу, встроены в него, и ничего, не тошнит. Или мы просто не замечаем уже тошноты? Достаточно лишь немного подкрутить оптику, чтобы универсум начал внушать отвращение?
В «Нелюбви» режиссер не просто вырезает из реальности какой-то экстраординарный эпизод в качестве сюжета (подход «Левиафана»). Он срезает с нее пласт горизонтальным сечением, переворачивает его и показывает: «Вот же она, ваша жизнь. Смотрите, как копошатся здесь различные существа». Сюжет здесь не особо важен, вернее, он важен, чтобы, с одной стороны, включить этот ад обыденности на максимум, а с другой — указать на возможность выхода из него. То, что этот выход возможен, отличает «Нелюбовь» от предыдущих картин режиссера.
Нелюбовь — базовое чувство тотальной раздельности, в которой каждый элемент смотрит только внутрь себя. Скрепки, которые как-то удерживают реальность от полного распада, — это страх одиночества, секс, общая собственность и телевизор; уже в финале фильма окончательно разошедшиеся по разным углам мегаполиса герои синхронно смотрят программу с Киселевым, посвященную «зверствам украинской хунты». При всей отрешенности друг от друга у них есть «общая повестка» — симуляция внутреннего единства.
В чем природа отношений двух главных героев? В том, что их разобщенность, с одной стороны, абсолютна, а с другой — в их личном пространстве есть точка, которая требует любви, — ребенок. Неспособность дать любовь и невозможность как-то отменить фактор третьего существа, за который они вынуждены нести ответственность, завихряет ненависть друг к другу. Человеку вообще свойственно мстить за общий отрезок судьбы, если продолжение невозможно. Звягинцев справедливо демонстрирует, что статичность в отношениях иллюзорна, в них всегда происходит либо сближение, либо движение к разрыву. Ребенок воспринимает себя в этом мире как лишнее звено, не выдерживает напряжения нелюбви и фатально выбегает за пределы реальности.
Здесь, как и в других фильмах Звягинцева, срабатывает один прием, который легко пропустить либо принять за чистую монету. Близкая к совершенству реалистичность внутри кадра позволяет расширить настроение картины на все социальное пространство, в том числе за пределами кинозала. Подобное было и в «Левиафана», когда общественность внушила себе, что в фильме представлена практика чуть ли не любого провинциального города. Отсюда распространенные жалобы зрителей на необходимость снимать стресс после просмотра Звягинцева алкоголем или иными способами, чтобы вновь примириться с реальностью.
Понятно при этом, что в каждом сюжете мы имеем дело с социальной патологией, которая случается не со всеми и далеко не всегда. Сила художественного таланта Звягинцева состоит в том, чтобы представить ее в качестве типичного. Аналогом такого приема в русской литературе является Гоголь. В значительной степени этот ход распространен в политической риторике, где общее часто расценивается через призму прецедента («такой-то чиновник что-то украл, следовательно, все чиновники воры»). При этом за пределами пленки остается целый мир человеческой нормальности, где люди могут общаться без страха, жить пусть не в страсти, но в тепле отношений, быть добрыми или по крайней мере не сжирать друг друга.
Однако в отличие от предыдущих фильмов режиссера в «Нелюбви» есть позитивная энергия. Здесь появляется «машина» добра — команда волонтеров, которая ищет сбежавшего от нелюбви ребенка. Механика поиска работает безупречно, но при этом практически лишена субъектности и эмоциональности. Волонтеров не интересует мелочь и пошлость человеческих отношений, они отодвигают в сторону все лишние детали. Спокойно и безучастно смотрит девушка-волонтер на почти спятившую старуху, которая вступает в грязную перепалку со своей дочерью, матерью пропавшего ребенка. «Нижний» мир погружен в эмоциональные всплески, но добро оборачивается алгоритмом слаженных действий, четкой функциональностью.
Через введение в сюжет этой силы Звягинцев преодолевает антропологическую одномерность предыдущих работ и разделяет людей на два базовых типа: тех, кто обращен только на себя, и тех, кто обращен к другим. Это самое принципиальное деление, которое глубже других социальных индикаторов. Собственность, культура, пол, возраст — все это менее важно. Почему вторая группа никак не проявлена на личностном уровне? Потому что по своей сути добро анонимно, не плаксиво и не сентиментально. Оно просто должно работать как функция социального организма. И вот здесь возникает интересный момент. Европейская культура — это культ индивидуальности, проявления сложных характеров. Однако у героев Звягинцева индивидуальность оказывается набором штампов, фобий и проявлений одиночества. Поэтому индивидуальность либо трагична, либо фейкова, как у Жени, героини фильма, чье сознание — отчасти продолжение сознания психически больной матери, отчасти растворено в ленте инстаграма. Звягинцев в этом пункте совершенный мизантроп, но ведь и правда, чем пристальнее мы себя разглядываем, тем комичнее и ничтожнее оказываемся. Выход в том, чтобы освободить себя от давления собственного «я».
Психологически фильм Звягинцева не оставляет в депрессии. Да, внутри его сюжета пустота побеждает любовь, но зритель не остается висеть в этой пустоте. Следует закодированное приглашение присоединиться к эффективной «машине добра», стать одним из участников удержания мира хотя бы на уровне минимально допустимой пристойности.
Вот, к примеру, героиня фильма в спортивном костюме Bosco с «Russia» на груди бежит в элитном коттедже по беговой дорожке тренажера. Это бег на месте, фиксация в неизменности. Из комнаты доносится голос Киселева, снежный покров подчеркивает статичность. В какой-то момент она останавливается и смотрит в пустоту. И в противовес этой статике вспоминается цепочка людей, которая прочесывает заснеженный лес. Фильм настраивает зрителя так, что возникает реальное желание оказаться внутри этой линии добровольцев, а не в пространстве дорого комфорта. Поэтому тем, кто жалуется на отсутствие катарсиса в работах Звягинцева, фильм как бы советует: плюньте вы на свой катарсис, да и на себя, ничего интересного здесь все равно нет, позор один. Становитесь в цепочку и займитесь делом.